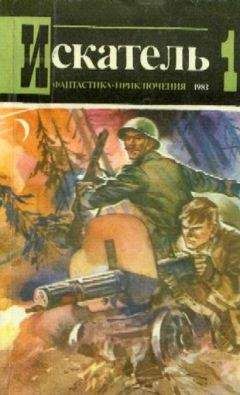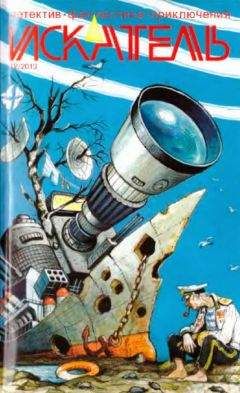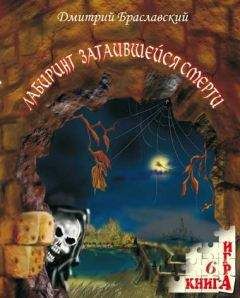— А ты?
— Скоро буду. У меня дела на станции. Ступайте, не бейтесь, была б нужда, на путях бы вас взяли, сопляки… И поторапливайся!
Антон пошел первым, теряясь в догадках. Что-то ему подсказывало: надо рисковать. В конце концов, деваться некуда, светало, а в случае чего… Он сжал в кармане пистолет и быстро зашагал по тропе.
Калитка была не заперта, двор утопал в гуще поблекшего сада. — За домом был пустырь с подлеском, дальше зубчато темнел сосновый бор. Осторожно, стараясь не шуметь, Антон ступил на крыльцо и, обернувшись, прошептал Борису:
— Стань за углом, если выстрелю, беги в лес.
Борис кивнул, он казался странно спокойным, глаза в темных впадинах чуть мрачно посвечивали из-под бровей.
— Жди…
Решение было отчаянным, надо было рисковать. Если за ними следят, все равно подобру не выпустят.
В сенях пахло керосином, кожей, какими-то солениями, запахи ощущались до тошноты остро. Он взвел в кармане курок. Услышав звяканье посуды сквозь обитую мешковиной дверь, толкнул ее. И замер. Спиной к нему у припечка маячила женская фигурка с распущенными волосами, в туго подпоясанном ватничке. Еще- ничего не понимая, почувствовал, как ослабли ноги Медленно опустился на табурет у дверей, поднялся и снова сел.
Женщина знакомым движением откинула со лба воронью челку, закрыла заслонкой печь и снова обернулась, знакомо коснувшись пальцами висков.
— Здравствуй, Клава, — сказал он почти беззвучно.
— Здравствуй… — Она отняла от висков пальцы.
Его толкнуло к ней, но он не тронулся с места, словно наткнулся на невидимую преграду. Что-то неуловимо новое было в ее обличье, мгновенно погасшем взгляде карих глаз: вместо слепящей солнечности сдержанный испуг, когда он зачем-то дважды повторил, что он от дядьки. Теперь он уже не сомневался, кто был их провожатый, такой непохожий на себя в окладистой бороде и старой одежде лесовика. И еще сказал, что Борька там, во дворе, сейчас он его позовет. Но Клавка словно не расслышала, лишь отчужденно распахнулись ресницы.
— Ты…
— Не узнаешь? — спросил Антон и снова хотел шагнуть к ней, но что-то словно бы удержало его, — Клав… Ну что ты в самом деле?
— Чей ты? Откуда?
Наконец-то опомнился… А чья она? Почему здесь? Ведь должна была эвакуироваться. А она здесь, с этим своим пострадавшим перед войной дядькой, который теперь запросто, без опаски носил ружье и разговаривал с немцем. Все это, обдавая жаром, пронеслось в мыслях, и, пока звал Бориса, не сводил глаз с Клавки, смотревшей мимо него на дверь.
— Клав, сказал он, и голос его вдруг захлебнулся нежностью, — будь оно все проклято, Клав, ты что… — И все так же мягко, запинаясь, ни с того ни с сего стал объяснять, почему сразу не узнал дедова дома, — ~ тогда они шли сюда от шоссе опушкой, а сейчас совсем с другой стороны. Надо же…
Она пристально, недоверчиво взглянула на него, губы ее тронула улыбка и тотчас сбежала.
— Откуда вы?..
Может быть, это было обычное, рожденное войной недоверие, ведь не могла же Клавка стать чужой, немецкой! Все, что было: споры, ссоры, институтские нелады, эта дурацкая история тогда на собрании — казалось сейчас не стоящей внимания чепухой.
Стараясь не смотреть на Бориса, торопливо, комкая слова, выложил все, что с ними произошло. До самого конца, до случайной встречи у вагона с дядькой, все — и свои сомнения, и веру в нее, интуитивно умолчав о контрразведке, — зачем зря настораживать?
Он видел ее черные, истомлённые лихорадочной мыслью зрачки, она словно прислушивалась к чему-то внутри себя. Потом шагнула к окну, вглядываясь в серую темень рассвета:
— А вот и он. Один. — И облегченно опустила плечи.
Антону стало не по себе. Выходит, мог быть не один? Но в таком случае оба они здесь в западне? Скрипнули входные двери, что-то ухнуло на пол, должно быть, охотничий рюкзак, хозяин все еще возился в сенях. Антон сказал, не поднимая глаз, точно незнакомой, в чью хату они заглянули по пути:
— Дай нам хлеба, если найдется, и мы пойдем.
— Попьете молока, и на чердак. Отоспитесь до вечера. Там подумаем.
* * *
Он ощущал легкое касание ее рук, запах травяного настоя и тот особый горячий запах липы, всегда исходивший от Клавки, ее мгновенный, порывистый шепот: «Ты все сказал, все до конца? Правда?» И оттаявший взгляд, в котором лучилась непривычная кротость. Погладил ее по голове как ребенка, она продолжала смотреть на него пытливо, с какой-то искоркой надежды, долго, бесконечно.
Потом все смешалось, навстречу полетела земля в немой карусели полей и лесов, он падал с остановившимся сердцем, ожидая конца… Шлепнулся мягко, увидел перед собой смеющееся лицо горбуна с бородой и ружьем за плечами. Тот позвал Клавку, и она стала удаляться к горевшему вдали зареву, пятясь и перелетая через сумеречные пороги коридоров со множеством каких-то часовых в касках, робко помахивая рукой, точно обещая вернуться. И он уже ничего не видел, кроме печального света ее мерцающих глаз, еще тянувшихся к нему из немыслимой дали…
Черный квадрат слухового окна. Дробящиеся в ресницах звезды… Сколько же он проспал? Сон отходил с томящей тяжестью. На душе было смутно. Он прислушался к ровному дыханию Бориса, изредка перебивавшемуся коротким стоном, и даже позавидовал — здоров дрыхнуть. Откуда-то донесся легкий скрип калитки, тяжелые, нетаящиеся шаги, потом все затихло, но сонная одурь уже слетела с Антона, до предела обострился слух. Он поднялся и на цыпочках, словно его и впрямь могли услышать, подошел и выглянул в окошко. У ворот в ночи золотилась огоньком цигарка. Луна чуть проскальзывала сквозь несущийся мрамор облаков, и ему показалось, что на скамейке сидит хозяин — знакомо покатая глыба спины в старом ватнике. Да и кому еще быть? Потом огонек двинулся и вновь замер. Антон затаил дыхание, кровь толчками билась в висках.
Чертовщина… Чего боится? Пожелай дядька, давно бы их выдал, еще тогда, на рассвете. А что, если тогда было не с руки?
Уже плохо соображая, что делает, лишь повинуясь инстинкту, он почти соскользнул с лестницы, прокрался к калитке и, никого не видя, не различая впереди в темноте, вышел наружу. И тотчас, еще не взглянув, почувствовал, что дядька на прежнем месте, на скамейке. Ждет? Кого? Или еще не ночь и человек вышел подышать? Знать бы, сколько времени. Дядька, конечно, заметил его: выскочил постоялец, будто за ним гнались. И кажется, даже усмехнулся. Но виду не подал.
— А я было собрался за тобой.
— Зачем?
— Закури. Побалакать надо.
Одежда и говор странно меняли его. Ничто не выдавало в нем прежнего профессора. Да и прежде был прост, мужицкого корня.