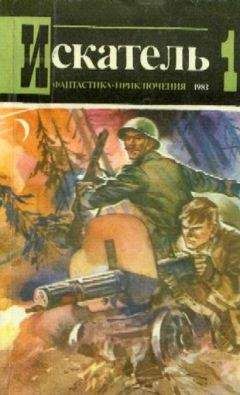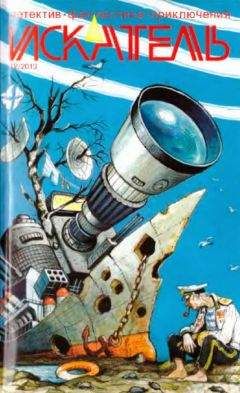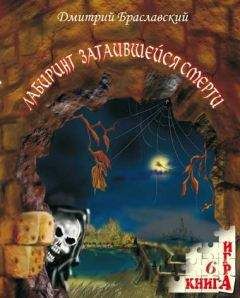— Почему не отвечаешь? Я жду.
— Отвечать нечего.
Только тут он заметил, в выбившихся из-под косынки смоляных волос четкую седую, прядь. Посередке, как. пробор. У него защемило сердце, кажется, она поняла — кивнула, но все еще молчала. Так, молча, будто от внезапно навалившейся тяжелости, присела на скамейку, и он опустился рядом…
Она спрятала прядь под косынку.
— Это когда мы бежали из города в июле. Отец твой заехал на минуту перед отправкой на фронт с, подводой для нас о матерью: все уже эвакуировались, весь институт, кроме дяди… — Клавка словно споткнулась на слове… — Надо было догонять, а еще хотела сбегать на кладбище к маме. Я же всегда ходила по выходным и не могла пропустить, ведь надолго разлучались. Она говорила медленно, сдерживая волнение, с трудом выталкивая из себя слова.
— Тонь… Словом… возьми себя в руки. Ты же мужчина.
У него оборвалось внутри. Он не слышал, как появился в дверях Борис, лишь повернулся, когда Клавка умолкла. — Доброе утро…
— Д-о-оброе, — ответила она через силу.
— Надо поговорить.
— При Антоне нельзя?.. Я сейчас не могу. А что?
— Ничего, — усмехнулся Борис, — просто любопытно, как вы… как вам тут удалось уцелеть.
— А что удивительного, — голос ее вздрагивал в нарочитом смешке, — анкета спасла. Из комсомола ты меня погнал, с дядькой тоже…
— Ясно. Антон как хочет, а я ухожу немедленно.
Лицо ее вспыхнуло, стало злым, некрасивым.
— Далеко не уйдешь. Советую подняться и там ждать. Понятно? Подняться и ждать…
Тишина, тяжелое дыхание Борьки, затихшие в сенях шаги.
— Тонь, — произнесла она каким-то странным, скрипучим голосом, — нет Зои Никитичны, мамы нет. — И мягко лбом ткнулась ему в плечо.
Он замер, окаменел, положив ей руку на стриженый затылок. В какое-то мгновение ужаснулся своей выдержке, сухим глазам, лишь голова горела огнем да во рту сухота. Все пытался вспомнить то июньское утро в сладком запахе акации, в горьковатом: дыму бомбежек, и что она ему говорила, мать, склоняясь над баулом, запихивая туда шерстяные носки, хотя на дворе была духота. Спокойно и просто. Мать не. умела плакать. Бывало, собирала мужа. Теперь сына. Когда-то она была пулеметчицей в отряде отца.
Клавка, оторвавшись от плеча, подняла к нему смятенное, мокрое лицо.
— Как это было? — спросил он.
И так же замкнуто, в тупом забытье слушал ее сбивчивый рассказ. Как они ехали в толпе беженцев за колхозной отарой под Александровкой, где прежде рыли окопы. Как налетели самолеты и все перемешалось — люди, овцы, телеги, детские коляски.
— Еле вытащила ее из кювета, такая она была тяжелая, неживая. И по полю, по полю к березе на холме. Именно к березе, чтоб запомнить место. Хорошо, земля песчаная, у меня в сумке нож завалялся, кухонный, так и рыла весь день, до вечера. А немцы перли по шоссе в машинах, смеялись, махали руками.
Концами платка крепко утерла сырое лицо.
— А этот парень… партизан. Пока все.
«Значит, связана с партизанами. — Он принял эту новость с отупевшим спокойствием. Угольком затлел вопрос о дядьке. — С кем она под одной крышей? А может быть, ей такая крыша и надобна? Какая крыша?»
— Говори все!
Ее ладонь почти просяще легла ему на руку, он отвел ее, сказал жестко:
— Мне можно.
— Я уже говорила. Там решат… У них сейчас строго, но я за тебя поручилась. Как дальше действовать, дядя Шура скажет.
«Убивать, убивать их, гадов, под корень. Где только можно, любым способом, — думал он с неотступно стоящей перед взором картиной похорон под березой. Мать, заплаканная Клавка с кухонным ножом… — Нет оружия — голыми руками, зубами. Только так!» — Он чувствовал, что задыхается. Даже тогда, в застенке, не было такой огненной, выжигающей нутро ненависти.
— Тонь, я все понимаю.
— Понимаешь, тогда ответь, наконец! Дядька о твоих делах знает?
— Тебя это не касается!
— Ладно, как хочешь.:
— Не все зависит от моего хотения. Есть ситуации, о которых лучше не знать, так надежней.
— Будь они прокляты, эти ситуации, когда перестаешь доверять друг другу и самому себе, — произнес он, глядя перед собой.
— Потерпи три дня, — тихо сказала Клавка, — если решат, за вами пришлют. А пока хоронитесь на чердаке. Днем не выходить. Они ведь к нам заглядывают, гостят…
«Они — это немцы…»
Клавка отвела глаза, просяще добавила:
— Тонь, сделаю, что могу, в остальное не суйся.
Слово-то какое — не суйся. Ну что ж, пусть будет так, поможет, это главное. И как ни горько, надо терпеть, ждать. Такая жизнь… Совсем не та, что была. Словно теперь лишь до конца осознал, как далеко ушло детство.
— Тонь… не думай об этом. Нельзя тебе распускаться.
— Ты о чем?
— О маме.
— Помолчи.
…Рановато, голубочка, встала…
Дядя Шура смотрел на них с крыльца, лицо его было пасмурным, твердые обросшие бородой губы сжаты.
— Пора снедать…
Борис лежал на сене, заложив руки за голову.
— Бриться зовут. И завтракать.
— Отворковались?
— Борь, мамы нет.
— Откуда тебе известно?
— От Клавки.
— Не верь им. Обоим.
— Сама схоронила. При дороге. Ножичком землю… кухонным.
И вдруг на него накатило. Острой, выворачивающей наизнанку бедой. Бухнулся головой в колючее сено, сцепив зубы, сминая медленно подступающий к горлу комок. Борис что-то говорил ему вполголоса, успокаивал, а он все кусал до крови губу. Потом отвалился навзничь и долго еще лежал, сдерживая прыгавшее дыхание.
— Слушай, у Клавки есть ход к партизанам.
Борис встрепенулся, сел, торопливо застегивая на груди рубашку.
— Дядька в курсе?
— Не знаю.
— Но это просто здорово. В партизанах тоже воюют!
Антону была неприятна эта его веселая суетливость. Узнай он о. смерти Борькиной матери, ему было бы не до веселья… Видно, война черствит людей.
* * *
Непривычная трапеза «при закрытых дверях», с плотно занавешенными окнами, с мрачноватым хозяином во главе стола — лысая голова, черная борода, — в черном аккуратном костюме, вновь напомнившем институтского историка. До чего же он был непохож на того себя, униженно сетовавшего на судьбу в отцовом кабинете. В красивом грубоватом лице его жила непонятная, раздражающая властность, мужицкая грубоватость, хотя, возможно, это и было всегда его сутью, существом исконного лесовика, бывшего офицера «из простых», промахавшего шашкой две войны и сейчас чувствовавшего себя привычно-уверенным — и где? У немцев! Чем он тут жил, на что душой опирался, что у него на уме?