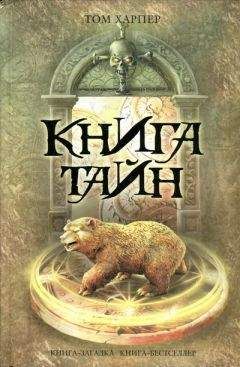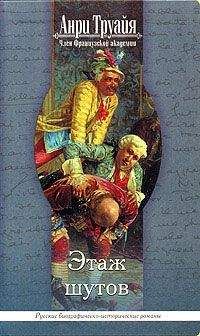— А Ательдин? Его чуть не убили в Брюсселе. Это что — тоже было частью плана?
Ательдин принялся теребить пуговицу на пальто.
— Это было по-настоящему. Я был в ужасе. Обычно меня вызывают как эксперта, если есть подозрение, что кто-то продает вещи, ему не принадлежащие. Или чтобы подтвердить подлинность предмета, по которому предъявляются страховые требования. А к таким штукам я не привык.
Вертолет обогнул гору. Тучи на небе рассеялись, и появилась луна.
— Что это там? — Ательдин показал на склон горы внизу. Среди деревьев полыхал огонь, золотая бусина в серебряном лесу.
В наушниках раздался голос пилота, говорившего с немецким акцентом:
— Может быть, авария? Позвоню в Обервинтер, пусть пришлют полицию.
— А пожарную машину они могут выслать?
Ательдин выгнул голову, чтобы видеть замок. Крыша, вероятно, уже обрушилась — пламя теперь беспрепятственно вырывалось над башней.
— На такой дороге — это невозможно. Разве что утром.
— Библиотека дьявола, — пробормотал Ательдин. — Хотя бы на полчасика в ней оказаться.
— Я бы мог с вами поменяться, — проговорил Ник. — Библиотекарь вам бы точно не понравился.
— Понятно. Однако жаль — все книги погибли.
Эмили залезла под рубашку и вытащила видавшую виды книгу в кожаном переплете.
— Не все.
Ательдин чуть не бросился к ней через всю кабину, но потом вспомнил правила хорошего тона.
— Это та самая?..
— Нет, та была прикована к стене — у меня не получилось. Но я сумела схватить эту. Мне она больше нравится. — Она передала книгу Нику. — Это тебе.
Ник покачал головой. С его места ему была видна Джиллиан — она спала, неровно дыша под одеялом.
— Я нашел то, что искал.
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
От Матфея, 10:27
Странные чувства испытывал я, вернувшись в Хумбрехтхоф. Стук прессов, клацанье литер в верстатках, крики и шутки учеников, орущих через двор: принеси еще бумаги, еще чернил, еще пива. Но это уже было не мое. Та цель, которой жил дом, изменилась: целеустремленная рутина, больше не заряженная эйфорией открытия. Каспар и я, Готц, Киффер и другие — мы создавали новую страну. Теперь прибыло второе поколение, чтобы прокладывать дороги, строить жилье, осушать болота, сажать растения, укрощать стихию. Лиц многих я не видел прежде: они посматривали на меня, но без всякого интереса. Некоторые узнавали меня и отворачивались или пожимали мне руку, как позволяла их совесть. Петера Шеффера среди них я не нашел.
— Он уехал во Франкфурт, — сказал Фуст, принимая меня в своем кабинете. — У него там дела с одним книгопродавцем. Он должен был уже вернуться и будет жалеть, что не увидел тебя. Наверняка его задержала какая-нибудь женщина.
Я пропустил эту ложь между ушей, спрашивая себя, знает ли Фуст, что Шеффер спит с его дочерью. Фуст неправильно понял выражение моего лица.
— Он был о тебе очень высокого мнения. Как о художнике и изобретателе. Это был самый трудный выбор в его жизни — между тобой и мной. Он не только мой наследник, но еще и твой.
Он взял со стола маленький металлический предмет и передал мне. Тот начал разваливаться в моих руках. Я начал извиняться, но тут же понял, что так оно и было задумано. Одна часть, меньшая, представляла собой выпуклую букву «В» с замысловатой гравировкой внутри — там росли цветы, занимались бутоны на ветках, а на лугу гончая преследовала утку. Эта часть входила в щель во второй, на которой была выгравирована листва, образующая единое целое.
— Это изобретение Петера. Внутреннюю часть покрываешь красными чернилами, внешнюю — синими, потом закрепляешь ее среди черных литер и печатаешь буквицу. Мы используем это на псалтыре для собора.
Он показал мне отпечаток на листе бумаги — куда более резкий, чем мог сделать любой иллюминатор или рубрикатор.
— Красиво, — признал я. Может быть, я ошибался и не все еще открытия были сделаны в этом доме.
— Все пока делается очень медленно. Петер в этом смысле похож на тебя, он одержим качеством и не задумывается о цене.
Затем между нами воцарилось неловкое молчание. Фуст, чтобы скрыть замешательство, принялся рыться в бумагах на столе, наконец нашел то, что искал.
— Я полагаю, мы должны закончить наше дело. — Он дал мне документ на подпись. — Мне жаль, но это необходимо. Мы с псалтырем запаздываем, церковь платить не торопится, поэтому мне приходится брать взаймы. Еврей узнал о наших разногласиях и потребовал в качестве гарантии, чтобы ты принял все условия приговора, вынесенного судом. Это всего лишь формальность. — Он зажег свечку и достал воск для печати.
— Я надеюсь, ты меня простишь, но я должен десять раз подумать, прежде чем подписывать любую бумагу, какую предлагаешь ты.
— Конечно. — Он улыбнулся хищной улыбкой. Нет, уязвить его было непросто.
Я прочел документ. Фуст забирал себе все содержимое Хумбрехтхофа, прессы и литеры, чернила и бумагу, мебель — все вплоть до последней верстатки. Ему также доставались напечатанные Библии для продажи и получения прибыли. Гутенбергхоф, его пресс и все в доме оставалось в моей собственности. Было время, когда несправедливость этого решения возмущала меня, теперь мой гнев остыл. Все осталось в прошлом.
Я расписался внизу и приложил мою печать в мягкий воск. Форма и оттиск. Фуст сделал то же самое.
— У тебя новая печать, — заметил я.
Черная птица в ошейнике держала два щита, украшенные буквами и звездами.
— «Книжная мастерская Фуста и Шеффера». Петер сделал. Мы будем ставить эту печать на все наши работы — знак нашего качества. Клиенты будут знать, что приобретают.
Мне это не понравилось. В некотором роде это казалось еще большим богохульством, чем то, которое совершил Каспар. Ставить свое клеймо на произведение искусства, заявлять свои права на него означало отчуждать его от Бога.
И снова Фуст неправильно меня понял, увидев, что я нахмурился.
— Мне жаль, — повторил он. Ему хотелось, чтобы я поверил в это. — Улица между нашими домами не так уж длинна. Мы, несомненно, будем видеться. Надеюсь, мы сможем быть друзьями.
Я был достаточно стар, и солгать мне не составило труда.
— Надеюсь. Но не теперь. Я на некоторое время уезжаю из Майнца.
Он не мог скрыть облегчение.
— И куда ты направляешься?
— У меня есть дела в Штрасбурге.
Город купался в лучах апрельского солнца. Деревянно-кирпичные дома и готические башни сияли теплым светом; площадь сверкала яркими цветами там, где стояли стеллажи с кухонными полотенцами, почтовыми открытками и путеводителями, которые словно прорезались сквозь асфальт. Вокруг толклись толпы туристов, радуясь Пасхе, а с каменных карнизов за всем этим наблюдали ангелы, львы, рыцари и змеи.