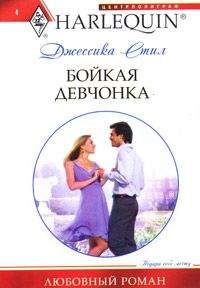Калачников оглянулся. Перед ним стоял пожилой низкорослый человек, морщинистые щеки его гладко выбриты, выгоревшие брови чуть заметны.
— Я, — запросто сказал Петр Петрович.
Вначале у него было желание снять шапку. Раздув мал: если нужно, пусть напомнит об этом.
— Кто такой? Мне невнятно доложили!
Петр Петрович уже свыкся со званием, которое «присвоил» ему Хельман («профессор селекции»!), и потому отвечал с достоинством:
— Профессор Калачников. По рекомендации военного коменданта обер-лейтенанта Хельмана.
— А-а! — удовлетворенно произнес Кох. Он долго и пренебрежительно разглядывал приезжего, не находя в нем ничего такого, что делало бы этого человека похожим на профессора. — Впрочем, теперь русских по виду и не определишь, — проворчал он. — Я помню, среди русских девок были настоящие красавицы. — Он брезгливо поморщился, пошевелив бугорками бровей. — А теперь нет. Все на одно лицо: специально сажей мажутся, чтобы быть неприглядными… Вы отлично говорите по-немецки!
— Я учился в Германии…
— О-о! Это очень хорошо!.. А в Шелонске давно?
— Почти всю жизнь.
— Отца моего помните? Иоахима Коха?
— Как же! Помню! — быстро ответил Калачников, а про себя подумал: «Неужели еще жив?»
— Три года назад скончался. Всю жизнь помнил Лесное.
«Особенно семнадцатый год, — подумал Петр Петрович. — Бежал от мужиков в ночных туфлях на босу ногу. Такие проводы действительно никогда не забудешь!»
Кох небрежно кивнул головой, что, видимо, означало: «Следуйте за мною», и зашагал твердой походкой самоуверенного человека. Сапоги из яловой кожи отпечатывали на сыром песке затейливые узоры. Левую руку он засунул в карман кожаного реглана, в правой держал ременный кнут.
Они взошли на пригорок. Взору Петра Петровича представился знакомый сад: здесь он бывал частенько, многие яблони, выращенные им в питомнике, уже давно перекочевали сюда и приносили плоды. Сад был заполнен густым сизоватым дымом: десятки женщин сгребали листья и тут же сжигали их.
— У большевиков люди разучились работать, — сказал Кох, показывая кнутом в сторону сада. — Мне приходится обучать заново.
— Скажите, господин Кох, как вы организовали это обучение? Меня интересует система: отработки или наем?
— Наем? — Кох громко захохотал, на глазах, сидящих глубоко во впадинах, выступили слезы. Он закашлялся, вытер шелковым клетчатым платком губы. — Наем? — повторил он. — Да что вы, профессор, с ума спятили? Для чего же, спрашивается, мы ведем войну? Чтобы, победив, нанимать себе работников? Вы, профессор, наивны как ребенок! Мужики и бабы у меня работают по одному-два человека от каждого дома. Беременные тоже работают, а то большевики выдумали декретные отпуска. Я их отменил: меньше рожать будут!..
Адольф Кох сел на скамейку. Он носком сапога поднимал сырой желтый песок и швырял его в сторону. Когда ему это надоело, он обернулся к Петру Петровичу и стал расспрашивать его об окучивании яблонь, об удобрении почвы на зиму, о побелке стволов. Петр Петрович отвечал охотно. «Яблоньки надо сохранить. Для своих. Вернутся — встретим плодами, пусть кушают на здоровье!»
— А оранжереи? — спросил Калачников.
— Что оранжереи? — сердито задал вопрос Кох.
— Как будет с цветами?
— Я буду выращивать овощи. Цветы, профессор, глупость, это не мужское дело! — Он нервно задвигал бесцветными бровями. После паузы сказал с подчеркнутой значительностью: — Цветы смягчают. Мужчина может превратиться в женщину. А у мужчины должны быть железные нервы, железная воля, железный характер. Все железное, не пробиваемое ни психическим воздействием артиллерийского огня на передовой линии фронта, ни женскими и детскими слезами в тылу.
Калачникову вдруг припомнился немец, герой рассказа Лескова, решивший показать свою железную волю и насмешивший своим трагикомическим характером окружающих. Тогда это было смешно, сейчас — трагично; хорошо, если бы и для других «железновольцев» так окончился бренный житейский путь, как для лесковского Карлуши…
— Наш век суровый, профессор! — назидательно сказал Кох. — Нас, немцев, весь мир называет варварами, а мы этим гордимся. Да, варвары жестокие люди. Но, сокрушив полуразвалившуюся Римскую империю, они обновили мир.
— Говорят, что все в свое время, — робко возразил Калачников. — Варварство для нашего времени — шаг назад, господин Кох. Так, во всяком случае, утверждают ученые.
— От науки все смуты. Римляне гордились своей культурой, наукой, а дикие варвары разгромили их. И наука не помогла! У нас должна властвовать одна теория: мужчины созданы, чтобы воевать, женщины — чтобы нянчиться с детьми, готовить обед, молиться богу за грехи, свои и мужа!
Калачникову казалось, что Кох сейчас ухмыльнется и скажет: пошутил. Но тот заговорил еще надменнее и злее:
— Война — это спасение, профессор. Смотрите, сколько людей наплодилось на земле. Скоро, как саранча, пожрут все! Надо оставить нужное количество, а излишек — к черту! — Кох сделал несколько глубоких вдохов. — Если у хозяина появляется излишний скот, он его прирезает. С людьми нужно делать то же самое. Без всяких сентиментов! Один миллиард оставить — и хватит!
«Нет, оказывается, ты еще больший подлец, чем я предполагал!» — негодовал в душе Калачников. Как и раньше, он стоял на почтительном расстоянии от Коха. Помещик не предложил гостю сесть, а Петру Петровичу, по правде говоря, и не хотелось сидеть с ним рядом.
Кох поднялся со скамейки и быстро пошел в сторону усадьбы, он махнул хлыстом, что означало избранное им направление. Не оборачиваясь, спросил:
— Севообороты когда-нибудь составляли?
— Да.
— Господин Хельман отпустит вас на неделю. Составьте мне севооборот на десять полей. Шесть деревень я уже получил в пользование. Обещают еще четыре. Их тоже учтите.
— Потребности населения в земле?
— «Потребности населения в земле?» — Кох посмотрел на Калачникова. — Вы шутник, профессор! Существуют только мои потребности! Я оставлю столько мужиков и баб, сколько мне нужно для работы. А остальных прогоню. Наиболее сильные выживут, слабые подохнут. Естественный отбор.
— Естественный отбор распространяется только на животных, — тихо возразил Калачников.
— Вздор! — крикнул Кох и еще быстрее зашагал по дороге. — Я вам сейчас докажу, что человек ничем не отличается от собаки!
Кох обернулся, в его взгляде Петр Петрович заметил дикое выражение. Глаза его блестели. Что-то было в этом блеске страшное и непонятное: широкие зрачки заполнили всю роговицу, щеки стали лиловыми.