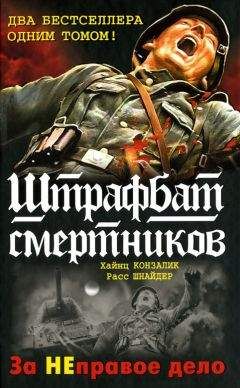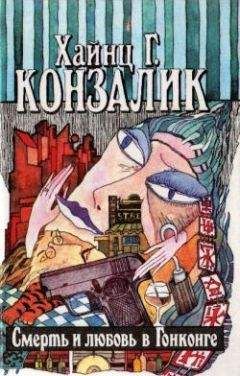— Хотелось бы обратить ваше внимание, друг любезный, что все–таки не вы, а я — командир 2–й роты, — довольно резко заявил он Беферну. — Вам же, как адъютанту командира батальона и не обладающему соответствующими властными полномочиями, остаются лишь связующие функции.
— Этот недочеловек… — начал было Беферн, но тут Обермайер бесцеремонно оборвал его:
— Но вы, зная, что он в моей роте, тем не менее допустили в отношении его самое настоящее безобразие!
— Уж не намереваетесь ли вы ознакомить меня с моей должностной инструкцией? И проинструктировать меня, как мне ее соблюдать? — перешел в контратаку Беферн. — Ваша рота — навозная куча, дружище!
— Я передам ваши слова командиру батальона, — холодно ответил Обермайер. — И постарайтесь запомнить — я вам не «дружище“ и запрещаю вам обращаться ко мне в подобной форме. Не будь мы сейчас на войне, я просто–напросто отхлестал бы вас по физиономии!
— Господин обер–лейтенант! — выкрикнул побелевший от возмущения Беферн.
Но Обермайер, резко отстранив его, прошел мимо, оставив его стоять.
Беферн, вернувшись к себе, достал из шкафчика тонкую папочку и раздраженно черканул в ней крестик напротив фамилии обер–лейтенанта Обермайера. Ничего, ты у меня еще попляшешь, думал он, я тебе покажу! Со мной твои приемчики не пройдут, ох, не пройдут. Кипя от ненависти, он захлопнул папку.
Обер–лейтенант Беферн не просто так оказался в штрафном батальоне. Его прислали сюда именно для того, чтобы докладывать обо всем, что здесь происходит. И в первую очередь брать на заметку политическую благонадежность служащих — как офицеров, так и унтер–офицеров.
На следующий день на утреннем построении солдатам было объявлено, что два дня спустя батальон перебрасывают в Россию. Обер–фельдфебель Крюль узнал об этом еще предыдущим вечером. И по этому поводу срочно напился. Сидел у себя в комнатке и хлобыстал. Нормальный человек просто пьет, иногда стакан за стаканом, иногда глотками, маленькими или большими, с большим или меньшим интервалом.
Но обер–фельдфебель был исключением из перечисленных правил. Что бы он ни пил — пиво, шнапс или вино, — он просто подносил к губам емкость, из которой приходилось пить, и в один присест заглатывал содержимое, причем так, что даже кадык не дергался. «Ну, шланг, прорва, ни дать ни взять“, — так характеризовал способ пития Крюля унтер–офицер Хефе. «Вот пьет так пьет! И как у него только из задницы не выливается!“ В германском вермахте существовало не одно предписание касательно употребления спиртных напитков, однако обер–фельдфебель Крюль, в целом следовавший предписаниям, именно их отчего–то игнорировал. А если уж приходил в ярость, тут для него пределов не существовало — нализывался до чертиков, а на следующий день изнемогал тяжким похмельем.
В тот вечер он как раз был взбешен. И снедаем страхом. Взбешен он был выходкой Шванеке, придирками Беферна, отношением к себе Обермайера, поведением солдат его роты, да и других тоже. Всех рот на всем земном шаре. И вообще мерзкой, отвратительной жизнью. Что же касалось страха, то причиной его была Россия. Его передергивало от одного только названия этой страны, не говоря уж о том, что там его поджидало. И дело было не только в том, что русские тоже умели неплохо стрелять и вполне могли попасть и в него. Самым ужасным было то, что солдатам штрафного батальона вполне могли выдать оружие. А что стоило в таком случае типу вроде Шванеке пустить пулю не в русского, а, скажем, в него, в обер–фельдфебеля Крюля? Бог ты мой, лучше уж об этом не думать.
Банда, одно только можно сказать про них. Мерзкая, вонючая банда! Поставить бы их к стенке и… Вот тогда бы он обрел покой на вечные времена.
И обер–фельдфебель Крюль пил, пил и пил, время от времени устремляя остекленевший взор в окно, за которым виднелся огромный темный плац.
— Дерьмо! — выкрикнул он. — Россия!
И чуть помедлив:
— Конец!
У него не было ни женщины, ни друзей, так что годами копившуюся злобу изливать было не на кого. Разве что на горстку солдат, находившихся в его подчинении и ненавидевших его.
Маловато, черт возьми, маловато. Крюль, понимая это, все пил и пил, пока не свалился замертво.
В кубрике 2–го взвода 2–й роты Шванеке предупредил всех:
— Держите ухо востро — в ближайшие дни что–то затевается!
— С чего ты это взял? — не понял Дойчман.
— Нутром чуешь такие вещи, — пояснил крысомордый.
— Думаешь, отправят нас куда–нибудь? — спросил Дойчман.
— Ага, отправят. К мамочке, — хихикнул крысомордый.
— Заткнись! — одернул его Шванеке.
Крысомордый, вздрогнув, умолк.
— Нет, правда, я чувствую: вот–вот нас отсюда погонят. И — могу на что угодно спорить — погонят в Россию.
— А что мы там забыли? — недоумевающе спросил лежавший на койке Видек.
— А тебе непонятно? — ухмыляясь, переспросил Шванеке.
— В Россию, — тихо произнес Дойчман.
— В эту проклятую страну! — подхватил крысомордый.
— Не боись, профессор! — ободряюще произнес Шванеке, осклабившись.
И, по–дружески ткнув в бок Дойчмана, добавил:
— Не все так плохо. Одно тебе могу сказать, — тут Шванеке перешел на шепот, — там для нашего брата будет куда больше возможностей. Куда больше! Ты только держись ко мне поближе!
— Что вы имеете в виду? — не понял полковник.
Однако Шванеке предпочел пропустить его вопрос мимо ушей. Прищурившись, он продолжал, обращаясь к Дойчману:
— Вот увидишь, профессор, я старый фронтовик и знаю что к чему. Так что там будет масса возможностей. Мы сумеем там все так повернуть, что у тебя глаза на лоб полезут, не будь я Карлом Шванеке! Или, может, ты думаешь, что Шванеке готов героически пасть на поле битвы, сражаясь за фюрера, народ и фатерланд?
Юлия Дойчман работала быстро, увлеченно, заставив себя сосредоточиться на работе, и только на ней — только это позволит ей повторить заново всю многомесячную работу Эрнста.
Так день за днем протекала ее однообразная жизнь, до ужаса напоминавшая жизнь дезертира, оказавшегося в тылу: в постоянном напряжении, в постоянной опасности, в постоянном осознании не успеть, промахнуться, недоглядеть в этом быстротечном и вместе с тем до ужаса медленно тянущемся времени. Она работала ночами напролет, отсыпаясь днем, а в последнее время разница между днем и ночью исчезла, растворилась — она работала до тех пор, пока мысли не начинали путаться, и голова Юлии бессильно падала на недописанный лист бумаги. Почувствовав голод, ела второпях, не обращая внимания на то, что именно ела, лишь бы избавиться от неприятной пустоты в желудке. И однажды вечером, когда Юлия, сидя в пустой квартире затемненного войной, отчаявшегося города, намазывала на черствые, тонко нарезанные ломтики хлеба маргарин, она вдруг поняла, что означает для нее скромность, уважительность и преданность идее осуществить, казалось, неосуществимое.