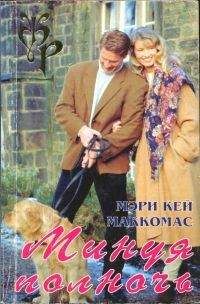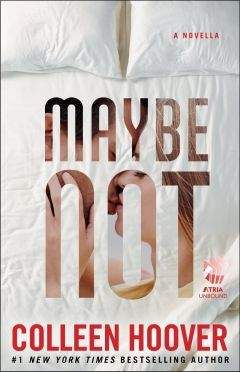— На прошлой неделе Алтынтау буран был, пятьдесят лет такого не было, — ну, еще бы, суть старожилов в том и состоит, что такого бурана за последние пятьдесят лет они не упомнят. — Видишь, где снег лежит? — продолжал чабан. — Всегда в августе снег вот так, — рука прошлась на уровне сердца. — После бурана — вот так, — он полоснул себя ребром ладони по кадыку. — Альпинисту, ой, как плохо!
— Альпинисты вам попадались? — спросил я.
— Палатки! — лаконично ответил чабан, и его указка устремилась к основанию Азадбаша. — Люди! — он завел кнутовище выше. — Возле перевала Музбельджайляу тоже один человек в палатке живет. Похож альпиниста, только не альпинист. Отсюда не пришел! Откуда пришел? Там дорога Совук-су есть! Может с Совук-су пришел. Только очень плохой дорога.
Над хребтами плыло облако, волоча за собою тень, точно тяжелый голубой невод. И кто знает, что было в этом неводе: альпинистская победа или альпинистская беда. Мы помолчали. Первым поднялся на ноги чабан, подозвал лошадь, запрыгнул на нее и, воздев на прощанье кнутовище, удалился под четкий перещелк копыт.
В лагере ни об Арифове, ни о Налимове не знали. Словно бы невзначай Норцов назвал эти фамилии шустрому инструктору. Потом — спросил альпинистов. Наконец, взял за жабры лагерного завуча, являвшего собой здесь, между грешной землей и небесами, последний оплот бюрократизма. Ничего! Установили мы, правда, что за последние дни через альплагерь проходили порознь какие-то люди, намеревавшиеся примкнуть к восходителям. «В шерпы хочу наняться», — заявил один из них.
— И Налимов и Арифов вполне годятся в шерпы. Оба имеют альпинистский опыт, — рассуждал я, застегивая свой спальный мешок.
— Да ну? — поразился Норцов.
— Точно. Гроссмейстер Максудов телеграммой сообщил мне об этом в Ф. Но у Налимова был запас времени, так что к приходу Арифова он вполне мог втереться в основную группу. Арифов же, в лучшем случае, только-только подтянулся к базовому лагерю.
Мы еще долго ворочались в спальниках, и глазастые звезды сочувственно смотрели на нас с черного неба. Может быть, они видели в эти минуты Налимова и Арифова, крадущихся по тропе — один, то и дело озирающийся, впереди; другой, прицельно впившийся глазами ему в спину — сзади. И старались на своем подмигивающем звездном языке пересказать нам увиденное. А может быть, они просто жалели нас: круты и опасны были склоны, по которым нам предстояло завтра идти…
* * *
На слегка перекошенной книзу ровной площадке у подножия отвесной каменной гряды стояли в два ряда палатки. Не так уж их было много: штук пять в общей сложности. Никто не кинулся нас обнимать, никто не восхищался стремительным нашим броском из «Аламедина» сюда, на предплечье вершины.
— Эге-гей, — зычно крикнул Норцов. «Эге-гей», — повторило эхо где-то в поднебесье. «Эге-гей», — откликнулось ущелье у нас под ногами с угасающей прощальной отчетливостью, словно далекая река хотела напоследок до нас докричаться.
— Эге-гей, — рявкнуло у меня за спиной. — Из окраинной палатки высунулась заспанная добродушная физиономия. — Куда вы? На ночь-то глядя. — Действительно, солнце скрылось уже за далекими хребтами, парившими над горизонтом, и вокруг нас сгущалась сиреневая темень.
— Да вот в шерпы решили податься, — ответил Норцов.
— Небось проголодались, ребята? Стало быть питание по капитальной схеме! — руки парня, прежде утопленные в вертикальных разрезах бездонных карманов, бойко вскрыли консервные банки, разожгли примус. А когда пища была заправлена тушенкой и вода в чайнике завела скулежную песню, обстановка в общих чертах была нам ясна. За день до бурана группа мастеров ушла отсюда на штурм вершины. В лагере осталась спасательная группа из трех человек, включая нашего собеседника и одного приблудного парня, новичка. Буран длился почти двое суток, причем в районе «Аламедина», где находился в это время руководитель всего отряда Шелестов, трудно было даже представить себе его размах. Но Шелестов всполошился и за полтора дня в непогоду поднялся с каким-то попутчиком в базовый лагерь. Спасателей Шелестов не застал: они вдвоем, едва буран стих, ушли на подступы к вершине, причем не по ближнему южному гребню, а в лоб. Через Азадбаш. Сегодня поутру Шелестов и его шерп ушли им вдогонку. А наш собеседник, Игорь Кленов, залег со своим аппендицитом в палатке и проспал двенадцать часов.
— Как назвался приблудный-то парень? — небрежно спросил я. — Договорились мы с одним приятелем к вам гуртом идти. Да он ко времени не явился… Николай Налимов.
— Не-е-ет, — протянул Кленов. — Кажется, этот не русский. Черный очень уж. Ох, и ругался Шелестов, когда узнал, что я приблудного на Азадбаш выпустил. «Зеленый, — кричит. — Непроверенный». Но под аппендицит списал мне этот грех.
— А, может, нашего приятеля Шелестов захватил? — спросил я.
— С Шелестовым никакого Николая не было, — откликнулся Кленов. — А новенький был. Новенький, но по годам довольно старенький. Саид.
— Саид? Высокий, худощавый, щеки запавшие? — заторопился я.
— Точно! Высокий, худощавый. Тоже ваш приятель?
— Арифов его фамилия? — ответил я вопросом на вопрос.
— Арифов, кажется. Что-то в этом роде.
— Тогда нет, не наш приятель, — рассмеялся я. — Слышать слышали, а видеть не видели.
— А вы-то прибыли к шапочному разбору, — дружелюбно посетовал Кленов. — Завтра штурмовая группа начнет спуск. Послезавтра на Азадбаше их встретят спасатели с Шелестовым. А еще через пару деньков будем здесь героев славить… Погуляйте, конечно, по склонам. Это не возбраняется.
…Пробудился я посреди ночи от толчка в бок. В палаточном проеме у моего изголовья округлым силуэтом вырисовывалась голова Норцова. Он еще раз заехал мне локтем в подреберье.
— Хватит, хватит, не старайся. Слушаю тебя, — я почему-то говорил шепотом.
— Глядите, — тоже шепотом вымолвил Норцов, — нет, чуть правей.
Я задрал голову и увидел высоко на черной стене Азадбаша синий огонек. Летящий и одновременно покоящийся, точно звезда, огонек, казалось, и обращался к звездам. Меня дрожь прохватила, когда я вообразил себя там, близ этой мерцающей точечки. Космический холод забрался под штормовку, зияющие пропасти черными полотнищами схлестнулись под ногами и рать привидений, расколов скалы, двинулась навстречу. Я закрыл глаза и опять открыл. Огонек все так же висел в ночи, скорее затемняя мир своим пронзительным лихорадочным лучиком, чем озаряя. Не было в нем той теплой желтизны, какая играет в пламени костра. Мы ждали, что огонек замигает, подавая какие-нибудь сигналы. И мы молчали, словно голоса могли вспугнуть упрямую искорку. Но искра погасла сама. А вскоре небо налилось голубым предчувствием солнца.