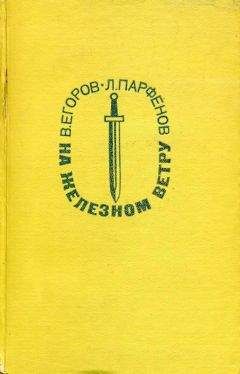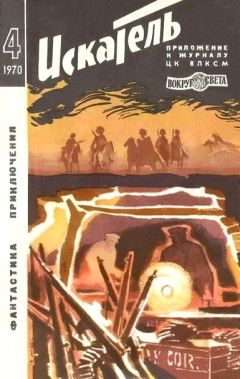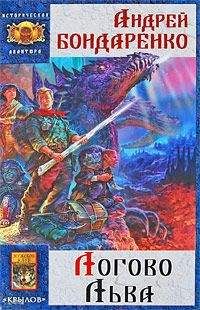Запись обрывалась — дальше были чистые страницы. Милий Ксенофонтович встал и начал расхаживать по комнате. Движение возбуждало мысль. Жизнь дельца приучила его не предаваться долго бесплодным сожалениям, а, крепко взяв в руки вожжи, управлять событиями.
Донцов, Донцов. Позвольте-ка... Да ведь это, надо полагать, сын бурового мастера Донцова, что снимает квартиру в доме на Сураханской. А здесь две комнаты в полуподвале, помнится, сданы его зятю. Теперь понятно, почему Зинуша знакома с Мишкой Донцовым. Их знакомству больше трех лет. А чекистом парень заделался только вчера. Отсюда следует, что Сашины подозрения гроша ломаного не стоят. И за тайник опасаться нет оснований.
Как с Зиной быть — вот задачка. Большевичкам скоро конец. И этого флибустьера ждет намыленная веревка. Спасать надобно Зинку, спасать. Можно бы, конечно, родительскую власть употребить... Да надо ли? Покуда ее любовь... фу! — пар один, девичьи грезы... А запрети — и всерьез разгорится. От запретов многие беды проистекают.
Есть иная зацепочка. Сказать Зинуше, что ее кавалер чекист, благо она о сем не ведает. Открыть про Сашу. Прячется, мол, от Чека. Что же отсюда воспоследует? Братом она гордится — герой — и никогда не выдаст. Боязнь за брата заставит ее держаться с кавалером настороже. Тут уж будет не до нежных чувств. Потому чекист — это не книжный флибустьер. Он, оглашенный, родных отца-матери ради своей революции не пожалеет. Зина — девочка не глупая, к семье приверженная, сама даст ему отставку. Тихо, мирно...
С величайшими предосторожностями Милий Ксенофонтович положил дневник туда, откуда взял.
Третий рабочий день, как и два первых, не принес ничего нового. Девушки машинистки, распознав в новичке человека не расположенного к зубоскальству, перестали его задирать. Михаилу было не до них. Чудовищное вероломство Зины Лаврухиной выбило его из колеи. С трудом высиживал положенные часы и никак не мог заставить себя заинтересоваться работой. Писать приходилось во много раз больше, чем на уроках в училище. За день правая рука уставала до ломоты. С горьким чувством посмеивался над собой: «Уж здесь-то изучу русский язык на все сто. После такой практики без экзаменов в академию можно».
Явившись в начале шестого домой, застал Ванюшу. Он вскочил навстречу, шумно приветствовал, похлопывая по плечам, по спине. В глазах его искрилось лукавство и улыбался он по-особенному, будто знал очень веселый анекдот, да не решался рассказать.
Из соседней комнаты доносился звонкий голосок племянника Кольки. Требовал каких-то объяснений от «тети Нади».
— Вот бабушка внука просит до завтра оставить. Придется. Видно, дети не больно балуют ее лаской да заботой.
Ванюша подмигнул Михаилу — что, мол, поделаешь, надо посочувствовать старушке.
Настасья Корнеевна вздохнула, обратила на зятя ласковый и погрустневший взгляд.
— Верно, верно, Ванюша, истинные твои слова. Пробери ты его, дома в глаза не видим.
— Ничего, мамаша, он парень исправный, плохого не сделает, — бодро заверил Ванюша. — Ну, я пойду. Миша, проводи до ворот.
— Да куда ж ты его, дай поесть, — встрепенулась Настасья Корнеевна.
— Сыт я, сыт! — уже из прихожей крикнул Михаил.
Едва вышли на улицу. Ванюша расхохотался — дал себе волю.
— Ну, брат, не ожидал от тебя такой прыти.
— Какой?
Михаил терялся в догадках. Не проведал ли Ванюша о его работе в Чека?
— Не знаешь? Ове-ечка!.. Эх, паря, золотой у тебя родственник. На!
Ванюша протянул клочок бумаги. Михаил выхватил, развернул. Крупным почерком, с завитушками, напоминавшими славянскую вязь, было выведено:
«Приходи на Парапет к шести. Средняя аллея, первая скамейка со стороны Ольгинской. Обязательно!»
Слово «обязательно» дважды подчеркнуто.
Лицо, шею Михаила точно кипятком ошпарило. Сглотнул слюну. Молчал.
— Да полно, не конфузься ты этак-то, — мягко сказал Ванюша, — а то, ей-богу, страшно: хлопнешься в обморок, возись с тобой. Дело-то житейское...
— Когда она?.. — вымолвил наконец Михаил.
— Да сейчас. Прихожу из депо — встречает у калитки. Глазки в землю, щечки, будто маков цвет. Так и так, Иван Касьяныч, не могли бы вы быть настолько добры... Почему не быть? Зашел домой, взял Кольку, тем паче, что бабка просила привести.
— Анне сказал?
— Зачем? Женский пол в такие дела допускать нельзя — сейчас всю округу оповестят, уж мне ли не знать? Ну, молодец Мишка. Девушка хороша, хоть и буржуйского роду. Она, ежели рассудить, так нашему брату нужна женщина рукодельная — прислуги не держим... Но и то сказать: нужда всему научит. Выхожу намедни, глядь, что за диво: лаврухинская дочка стираное бельишко на дворе развешивает... Нет, девка по всем статьям...
— Ванюша!.. — отчаянно, будто в него раскаленной иголкой ткнули, вскрикнул Михаил. — Ну, что мне?.. Что ты, как сваха?.. — В голосе слышались слезы. — Белье какое-то! — Сглотнул слюну. — Ты ее не знаешь... Она... с Гасанкой...
Не выдержал. Невозможно стало нести в себе эту тяжесть, разъедающую ядовитую боль. Рассказал все, как было. И про то, как по водосточной трубе лазил и про все остальное. Ванюше можно. Прошли в конец улицы, повернули, проскочили до угла Цициановской. Здесь Ванюша остановился и сказал:
— Ну, Михаила, тебе только в цирке выступать — ловко по трубам лазишь. Одно плохо... — указательным пальцем постучал сначала по лбу шурина, потом по стене.
— Чего? — не понял Михаил.
— Олух царя небесного — больше ничего. Ты куда свои ревнючие бельмы запускал? В комнату к папаше ее, Милию свет Ксенофонтычу. Очень просто мог старика в одночасье жизни решить. Глянул бы Милий на окно, а там этакая персона глазищами ворочает. Ну и дух вон...
— Как же... так? — жалко улыбнулся Михаил. — Откуда ты знаешь, чья комната?..
— Месяца два назад Колька заболел, так я толкнулся к Лаврухиным за аспирином. Дочка его честь по чести провела меня к себе, выдала целую пачку... Ее окно крайнее от улицы, а эти два — отцовские. Понял, голова?
Михаил стиснул в ладонях здоровую руку шурина.
— Ванюша, ты славный... Спасибо, Ванюша. Ты... Я никогда...
— Ну, ну, не задерживайся, беги куда зовут. Эх, влетит мне от мамаши — увел, скажет, парня не емши, не пимши... Сплети уж там что-нито поскладнее...
— Сплету, Ванюша, сплету! — весело пообещал Михаил и, не переставая улыбаться, зашагал через улицу.
У него не было часов, да и без них знал, что пришел на Парапет слишком рано. Однако четверть часа провести в одиночестве было, пожалуй, кстати.
Две аллеи, пересекаясь в центре, делили окружность сквера на четыре сектора. Третья аллея опоясывала сквер по периметру. Вдоль бровок тянулись сплошные заросли кустов боярышника. Летом они представляли собой непроницаемую для глаза зеленую стену. Кусты не подстригались с семнадцатого года и сильно разрослись. Но сейчас сквозь мешанину сучьев, на которых едва проклевывалась зелень, сквер просматривался насквозь и казался прозрачным. Развесистые акации, что поднимались за кустарником, только-только раскрыли почки и в лучах предзакатного солнца выглядели чуть размытыми, будто погруженными в зеленоватую воду.