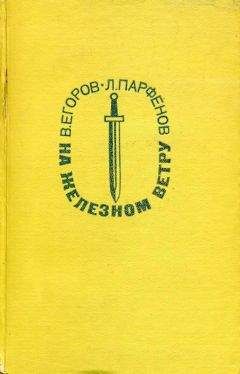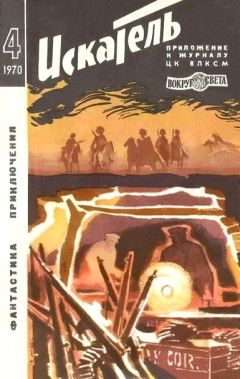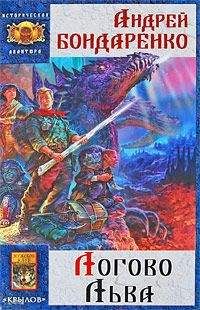— Правда?
Зина подняла на него глаза. В них не осталось и следа недавней отчужденности. Взмах ресниц, густых и длинных, вызвал такое ощущение, будто теплая бархатная ладонь коснулась груди.
Михаил кивнул, не в силах вымолвить слова. Ее рука лежала на краю скамейки, он подвинул свою и коснулся мизинцем ее мизинца. Он затаил дыхание, отдаваясь волнующему чувству близости. Положил свой мизинец на ее, осторожно погладил. Потом накрыл ее руку ладонью. Оба молчали и смотрели в землю. Боялись встретиться глазами, потому что каждый знал, что́ найдет во взгляде другого.
— Проводи меня, — тихо сказала она.
Они шли, разговаривая о библиотеке, что около армянской церкви, о воробьях, о красках вечернего неба. Они шли рядом, то и дело совершенно непроизвольно касались друг друга плечами, и от этого ощущение их обособленности от остального человечества крепло и утверждалось.
Дойдя до дому, они немного постояли около калитки. Обоим не хотелось расставаться, но и торчать на глазах у целой улицы тоже было неловко. Зина нашла выход из положения, — взяв Михаила за руку, провела за сарай. Они очутились в узком пространстве между задней стеною сарая и стеною, опоясывавшей двор. Было тесно, им поневоле пришлось встать вплотную друг к другу. В сумеречном свете раннего вечера она показалась Михаилу пугающе прекрасной. Он посмотрел ей в глаза и, подчиняясь неизвестной силе, исключавшей даже мысль о сопротивлении, привлек ее к себе, нашел ее губы... Время потеряло значение. Зина первая вернулась к действительности.
— Что мы делаем? Нельзя... не надо...
— Давай поженимся, — сказал он. Сказал только потому, что знал из книг: женщины всегда почему-то ждут от мужчин именно этих слов.
— Но ты ведь еще мальчишка.
— Мне семнадцать.
— Ты не знаешь мою семью. Ничего не знаешь. Папа...
Она запнулась и долго молчала. Положила руки ему на плечи, проговорила торопливо, трепетно, будто стесняясь своих слов:
— Скажи, Миша, если бы, ну, близкий тебе человек оказался бы нелояльным к власти, который ты служишь...
— Враг, что ли? — захотел уточнить Михаил.
— Ну да, положим, враг... Твой родственник хотя бы... Что бы ты предпринял как чекист? Выдал бы его властям?..
Вопрос показался ему слишком отвлеченным, потому что руки его лежали на девичьей талии и губы еще сохраняли вкус поцелуя. Улыбнулся ее наивности, сказал:
— Да ведь если он враг, значит он уж не родственник.
Руки сползли с его плеч, упали, как плети.
— Но как же так? Получается: родственные узы для тебя ничто.
— Погоди! — вдруг загорелся он. — Вот и видно, что ты не пролетарка... Главное что? Борьба классов. Ну какой же, посуди, может быть у меня родственник в классе, который враждебный и с которым я борюсь?..
Она посмотрела на него искоса и снизу вверх, отчего взгляд ее приобрел вызывающую остроту.
— Ты только что предлагал пожениться, а я принадлежу к буржуазному классу. Раздумаешь, да? И начнешь сейчас же со мной бороться?
Такого оборота Михаил не ожидал. Огляделся, будто ища поддержки.
— Но ты... ты должна перевоспитаться, полностью встать на комсомольскую платформу. За мировую революцию и против гидры капитала...
Она улыбнулась, но совсем не весело, а устало.
— Какой еще гидры? Гидра — в мифологии.
Михаил снял руки с талии Зины. Что-то обидное почудилось в ее улыбке и словах.
Она уловила перемену в его настроении, попыталась произнести какие-то примиряющие слова, но он заговорил, не слушая ее:
— Знаю, что в мифологии, — дело не в том. Я за Советскую власть и за мировую революцию, потому что я за справедливость. Разве это плохо? Я за то, чтобы все люди жили хорошо, чтобы не было голодающих и нищих. Разве это плохо? Скажи: плохо? — Но сказать он не дал. — И если, например, один захапал все, что создали тысячи человек, я за то... Словом, его надо экспроприировать как последнего гада. Разве это плохо? Ну ответь — плохо?
Он говорил громко, не заботясь о том, что его могут услышать во дворе. Голос его клокотал. В повороте крупной головы, в энергичных движениях рта, в яростном блеске глаз чувствовалась незаурядная внутренняя сила...
— Нет, ты ответь! — напористо повторил он. — Разве это...
Она обвила его шею и закрыла губами рот...
— Пора, — сказала она, отрываясь от него, — мне пора домой.
— А когда... когда мы встретимся?
— Не знаю... Завтра. Нет, лучше через день... Приходи к дому, кинь камешек в мое окно, с улицы легко попасть — оно крайнее. Только не разбей окно. И постарайся не попасть на глаза отцу.
Она засмеялась легко, счастливо.
Шагая домой (спешил — надо было перекусить перед работой), вспоминал и заново переживал каждый взгляд, каждое слово, каждый поцелуй. «А откуда она узнала, что я в Чека?» — неожиданно возник вопрос. Об этом он говорил только своим друзьям. Но они не болтливы и, кроме того, не знакомы с Зиной. Так откуда же?
Постепенно Михаил втянулся в работу. Обилие писанины больше не угнетало его. Документы, попадавшие ему в руки, открывали нечто такое, о чем он раньше не подозревал. Оказалось: в борьбе с затаившейся контрреволюцией принимали участие люди, не имеющие никакого отношения к Чека. Обыкновенные рабочие, служащие в своих письмах сообщали о появлении в городе активных муссаватистов, дашнаков, эсеров, о тех, кто призывал выступать против Советской власти.
Когда Михаил выразил перед Костей Спиридоновым удивление по этому поводу, тот лишь пожал плечами.
— А что тут удивительного? Мы защищаем народную власть, вот народ нам и помогает. Иначе пришлось бы раз в десять увеличить штат.
Большинство корреспондентов были малограмотны, выражались языком корявым и неуклюжим. Буквы в письмах клонились и вправо и влево, точно доски в трухлявом заборе. Как видно, писание требовало от этих людей немалых усилий, и только неотложная нужда, чувство долга заставляло их браться за перо. Но именно в таких письмах содержалась самая ценная информация.
Официально в обязанности делопроизводителя входило вносить краткое содержание поступавших от граждан писем в регистрационную книгу. Но вскоре Михаил понял, — от него требуется нечто большее, чем бесстрастная регистрация. Раза два Холодков интересовался, не попадались ли в письмах упоминания о подпольных контрреволюционных организациях. Собственно, Холодков почти ежедневно просматривал регистрационную книгу и знал, о чем пишут добровольные помощники. Михаилу стало ясно: начальник нацеливает его, вводит в курс главных задач, стоящих сейчас перед Чека. Конечно, на своем невеликом посту делопроизводитель вряд ли мог сколько-нибудь заметно повлиять на успешное решение этих задач, но Холодков хотел, чтобы молодой сотрудник поверил в необходимость и важность порученного ему дела. Теперь чтение писем стало для Михаила увлекательным поиском, он не просто с любопытством воспринимал вое, о чем в них говорилось, — он знал, что ему нужно. Канцелярская работа впервые дала нечто похожее на чувство удовлетворения.