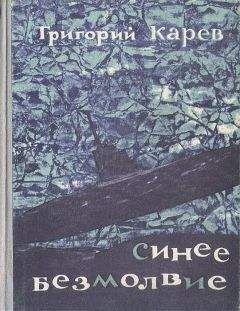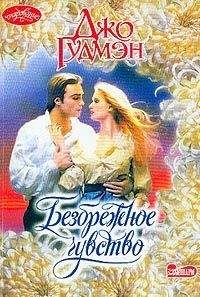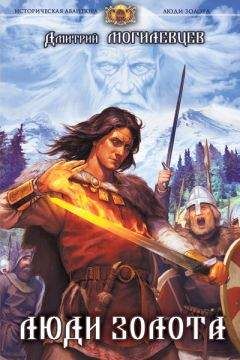…Он сошел на маленькой пристани один. Речной катерок, что курсировал в устье Двины, повернул обратно, в Архангельск. Федор зашагал по мосткам к берегу. Мостки были перекинуты с островка на островок, под досками морщилась от ветра вода.
Вдали на берегу в ряд стояли избы. Было часа три дня.
Первые два дома Федор обошел вокруг, никого не встретил и решил пройти вдоль всего ряда по берегу. В тишине он слышал, как где-то неподалеку жикает пила, и через несколько шагов увидел впереди, около последней избы, двух женщин. Они пилили дрова. Женщины тоже его заметили — выпрямились. Стало совсем тихо. Он подходил. И пока был еще далеко, они стояли и смотрели на него, а когда приблизился, дружно схватились за пилу и зажикали вдвое старательнее. Федор подошел к ним, остановился. Весело летала пила. Брызгали опилки. Женщины раскраснелись и не смотрели даже друг на друга. Одна была совсем еще девчонка, вторая старше ненамного, а выглядели они солиднее издали, наверное, потому, что были в телогрейках, в теплых платках и сапогах. «Здравствуйте!» — сказал Федор. Едва он открыл рот, пила смолкла, обе разом выпрямились, глядя на него смущенно, смеясь глазами, и хором ответили: «Здравствуйте!» Он спросил, где ему найти Лиду Пустошную, и та, что постарше, обрадовалась: «Это я. А вы-то, наверное, от Ильи, да?» (То есть от нашего боцмана.) Вторая спросила: «Вы — Костя?» Обе окали. «От Ильи, — ответил Федор. — А Костя в июне в отпуск пойдет». Младшая была сестра Пустошного. Она тут же куда-то убежала. Лида повела гостя в дом…
— Знаешь, какой это дом? — Федор смотрел на меня так, словно и сейчас удивлялся тому, что увидел тогда еще, до войны.
«Почти все старшины мастера сказки рассказывать! — подумал я. — Интересно, почему?» Волновала меня эта «сказка», и было досадно, что не знал ее раньше.
А Федор еще долго рассказывал. Я увидел крепкий поморский дом, двор, хозяйственные постройки, потом горницу — светлую, с большой выбеленной печью, с чисто выскобленными полами и снежными занавесками на оконцах. Мне она показалась даже холодноватой — в ожидании хозяев… У самой двери Федор, едва вошел, увидел громадные шлепанцы и рассмеялся. Лида улыбнулась не без гордости: «Его».
Она усадила гостя за стол, замелькала, наполнила горницу певучим окающим говором: жалела, что Федор так неожиданно, что нечем его, как надо бы, угостить (вот когда мужчины возвращаются с моря — Илья ведь до службы тоже рыбачил по полугоду, — тогда в доме все время гости и угощения полно!). На столе появилась горячая рассыпчатая картошка, свежего посола семга, нарезанная в глубокую тарелку, потом колбаса, желтый брус масла, хлеб, графинчик с водкой и, наконец, ярко надраенный самовар. Минуты на три Лида скрылась за печкой, примолкла — и вышла одетая уже в легкое зеленоватое платье, в туфлях на каблуках, с косой, уложенной вокруг головы. Федор понял, что его приезд — событие. Он почувствовал себя польщенным.
Она с ним выпила стопку. «Ну, рассказывайте!» — попросила.
Светилась вся гостю. Ведь он был приветом от ее Ильи, а поморки такими приветами не избалованы. Но у нее хватило души и Федору заглянуть в глаза и его расспросить о нем самом, внимательно и с лаской, а не приличия ради.
Потом Лида проводила его — они шли по мосткам друг за другом, — и стояла на пристани, пока катер не отошел далеко. Федор долго видел, как она машет ему рукой.
Через два месяца началась война…
С девятнадцати ноль-ноль я стоял вахтенным у трапа и смотрел на Америку.
Трап был перекинут с левого берега на асфальт причала, кранцы на борту прижимались к сваям и поскрипывали, когда подходила и отходила невидимая волна, и сваи — это уже была Америка, и по трапу достаточно было сделать пять шагов, чтобы сойти на эту землю, но она была теперь куда дальше, чем расстояние в пять шагов.
Можно стоять на тропинке у железной дороги, там, где с одной стороны блестят рельсы, а с другой на откосе желтеют одуванчики, и можно смотреть на ту же тропинку, на те же одуванчики из окна вагона — и все уже будет иначе. На тропинке — один мир, а если ты в вагоне, то смотришь на нее из другого, пусть они и отделены всего-то двумя шагами.
На корабле, когда он стоит у берега, это ощущение отдельности мира, в котором находишься, много сильнее, чем в вагоне, особенно если берег — Америка, а корабль, где ты стоишь вахтенным у трапа, имеет на кормовом флагштоке советский военно-морской флаг.
Там — Америка, здесь — Советский Союз. Вот как!
За причалом стояли каменные склады, крытые гофрированным железом, с раздвижными широкими дверями из такого же самого железа, и почти на каждой стене были выведены белой краской три большие буквы «USN» — «Юнай-тэд Стейтс Нэви»: «Флот Соединенных Штатов». Над крышами приземистых складов неожиданно поднималось какое-то большое здание, похожее на элеватор, но с длинными узкими окнами, а справа от него торчали стрелы портальных кранов, и, наверное, на лапах кранов тоже были выведены три буквы, означающие, что это собственность флота Соединенных Штатов.
На ложках и вилках, которыми мы пользовались, на плащах, куртках-канадках и на другом штормовом обмундировании, что получили вместе с катером, тоже стояли эти три буквы. Но с тех пор, как мы первый раз — под нашим флагом — вышли на этом катере в океан, они уже не имели никакого значения. Америка осталась за трапом, по ту сторону борта, и, хотя мы ни на милю не приблизились еще к нашему Мурманску, она уже отодвинулась куда дальше, чем на пять шагов.
Сейчас я чувствовал это так остро, что на какое-то время мне стало казаться — не катер ошвартован у причала, а этот причал, склады, крытые гофрированным железом, большое здание, портальные краны, а за ними, я знал, шоссе и город вдали — вся земля опирается, чуть покачиваясь, на борт нашего корабля и, наверное, ухнула бы в глубину, захлебнулась, потонула, если бы не этот борт, на котором я стоял вахтенным у трапа.
Пустошный вылез из кубрика.
— Вахтенный, моих на бак…
— Есть!
Я посвистал в никелированную боцманскую дудку, крикнул:
— Боцманской команде построиться на баке!
Их было шестеро вместе с Пустошным. Они построились и гуськом сошли по трапу на причал, отправились получать продукты, а я смотрел вслед, повторяя про себя фамилии шестерых, потому что сейчас обязан был знать, сколько человек, кто именно и куда ушел с корабля, — кого нет дома.
Потом стал прохаживаться вдоль борта, рядом с трапом.
Катер стоял в той части длинного пирса, которая была ближе к выходу из гавани; и, когда я шел вперед, мне видно было окончание мола. Там, в сизой тени, уже зажгли белый огонь створного знака. А поворачивая в обратную сторону, я видел пять катеров, полученных другими нашими командами, потом борт американского эсминца, а за ним еще какие-то корабли.