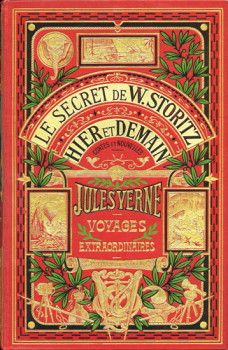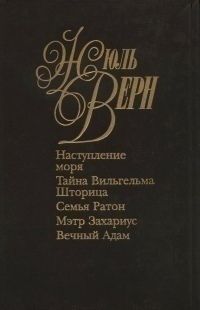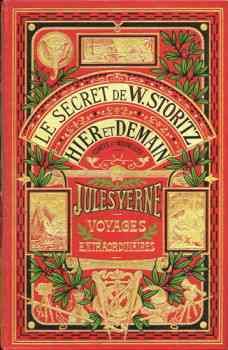Конечно, тут все-таки многое еще непонятно. Почему одежда на Вильгельме Шторице делалась невидимой, как и он сам, а вещи, которые он брал в руки, оставались видимыми?
И что это за состав, способный производить такой невероятный световой эффект? Этого я еще не знал, к своему глубокому сожалению. Если бы я знал, то мог бы тогда бороться с нашим врагом равным оружием. Но, быть может, нам удастся осилить его и без этого состава? Я ставил такую дилемму: или этот состав действует лишь временно и потом действие его прекращается, или он действует однажды и навсегда. В первом случае Шторицу приходится повторять через известные промежутки времени прием своего снадобья, во втором он должен принимать какое-нибудь, так сказать, противоядие, чтобы привести себя в обычный вид, потому что и для него самого далеко не всегда удобно быть невидимкой. Как в том, так и в другом случае Шторицу необходимо или всякий раз фабриковать оба состава, или держать где-нибудь у себя постоянный их запас в более или менее значительном количестве.
Поставив эту веху, я задался вопросом: какой смысл был в колокольном звоне и в размахивании факелом на башне ратуши? Это ни с чем не вязалось. Это была какая-то бессмыслица. По всей вероятности, у Вильгельма Шторица закружилась голова от собственного «сверхъестественного могущества», как он сам выражался, и он в упоении проделал обе эти крайние нелепости. Другого объяснения придумать было нельзя. Возможно было и то, что Вильгельм Шториц просто-напросто начинал повреждаться в рассудке.
Руководствуясь всеми этими соображениями, я пошел к Штепарку и поделился с ним своими выводами. Было решено окружить дом Шторица кордоном из городовых и солдат, так чтобы туда совершенно невозможно было проникнуть. Таким образом Шториц будет отрезан и от своей лаборатории, и от тайника с запасом готового снадобья, если таковое существует. Вследствие этого он или должен будет с течением времени принять свой обычный вид, доступный для зрения, или останется невидимкой навсегда, что, в конце концов, будет довольно плачевно для него же самого. Следовало также ожидать, что если у Шторица действительно начиналось сумасшествие, то оно пойдет и дальше более быстрыми темпами вследствие раздражения, которое вызовут в этом упрямце поставленные ему препятствия. Тогда он наделает неосторожных шагов и попадется в наши руки.
Штепарк еще до разговора со мной надумал оцепить дом Шторица. Он находил, что эта мера успокоит город, который волновался все больше и больше. Настроение было такое, как во время осады неприятельскими войсками, когда с минуты на минуту ожидается бомбардировка и каждый думает: «А куда же упадет первая бомба? Не в мой ли дом?»
Действительно, чего только нельзя было ожидать от Вильгельма Шторица, если он находился в городе?
В доме доктора Родериха положение было еще тяжелее. Рассудок к несчастной Мире не возвращался. С ее губ слетали только бессвязные слова, взгляд блуждал и не мог ни на чем остановиться. Того, что ей говорили, она не понимала. Ни матери своей ни Марка, который уже поправился и поочередно с госпожой Родерих дежурил у постели больной, она не узнавала. Пройдет ли у нее этот острый припадок сумасшествия или оно сделается хроническим? Ничего нельзя было сказать.
Слабость у Миры была страшная, как будто вся она была надломлена и разбита. Лежа на постели, она едва была в силах шевелить рукой. Иногда казалось, что она собирается что-нибудь сказать. Марк наклонялся к ней, говорил ей, старался прочесть в ее глазах ответ… Глаза Миры оставались закрытыми, приподнявшаяся рука снова бессильно падала на одеяло. Госпожа Родерих поддерживала себя только усилием воли. Она почти не отдыхала, да и то только по настоянию мужа. Спала она тревожно, постоянно просыпаясь от страшных снов. Ей мерещились в комнате чужие шаги. Она была уверена, что невидимый и неуловимый враг все-таки проник в дом, несмотря на все принятые меры, и бродит вокруг ее дочери. Она вскакивала, бежала в комнату Миры и успокаивалась только тогда, когда находила у ее постели Марка или доктора Родериха.
Каждый день несколько товарищей доктора Родериха приходили на консилиум. Больную всякий раз тщательно осматривали, но ни к какому заключению не приходили. Не замечалось реакции. Не было кризиса. Полная инертность. Наука признавала себя тут бессильной.
Едва успев немного поправиться, Марк стал дежурить у постели своей невесты. Я тоже отлучался из дома редко, только тогда, когда нужно было сходить к начальнику полиции. Штепарк сообщал мне обо всем, что делалось и говорилось в Раче. От него я узнал, что население в сильнейшей тревоге. Составилось убеждение, что город наводнен целой бандой невидимок с Вильгельмом Шторицем во главе и что население совершенно беззащитно перед их дьявольскими махинациями.
Зато капитан Гаралан по большей части отсутствовал. Он бегал по всем улицам, находясь под давлением одной идеи. С собой меня он уже не приглашал. Очевидно, у него в голове зародился какой-то план и он боялся, что я буду его отговаривать. Быть может, он рассчитывал на невероятный случай — встретить Вильгельма Шторица? Или дожидался, когда получит известие, что Шториц находится в Шпремберге, чтобы сейчас же туда отправиться самому? От последнего шага я бы удерживать его не стал, а, напротив, сам бы стал помогать ему покончить со злодеем.
Но возможно ли было теперь рассчитывать на встречу с Шторицем где бы то ни было? Конечно нет.
Вечером 11 июня у меня был продолжительный разговор с братом. Он казался удрученным больше обыкновенного. Я боялся, не заболел бы он. Его бы нужно было куда-нибудь увезти из этого города — во Францию, что ли, но он ни за что не согласится уехать от Миры. Отчего бы всему семейству Родерихов не покинуть Рач на некоторое время? Я решил поговорить об этом с доктором.
Заканчивая в этот день беседу с Марком, я ему сказал:
— Я вижу, ты готов оставить всякую надежду. Напрасно. Помутнение рассудка, поверь, у нее только временное. Она скоро придет в себя, вот увидишь. И все опять будет по-прежнему.
— Могу ли я не приходить в отчаяние, — говорил с рыданием в голосе Марк, — когда все так ужасно складывается? Если Мира и очнется от своего помешательства, то она все-таки не будет защищена от покушений со стороны этого злодея. Или ты воображаешь, что он успокоится и ограничится тем, что он уже натворил? Ведь он имеет возможность сделать все, что захочет. Понимаешь ли ты это, Генрих? Он может сделать все, а мы ничего не можем. Мы против него беззащитны.
— Нет, Марк, это неверно. С ним возможна борьба.
— Но как? Каким образом? — волновался Марк. Полно, Генрих, ты говоришь то, чего сам не думаешь. Нет, против этого негодяя мы совершенно беззащитны. Только запершись как в тюрьме, можем мы от него оградиться, да и то не наверняка. Нельзя ручаться, что он все-таки не проберется как-нибудь в дом.