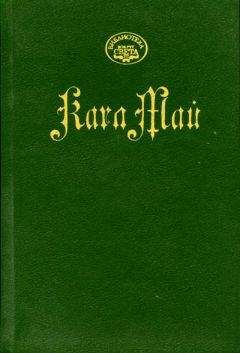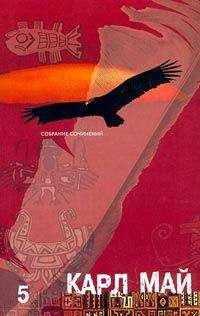Одним из выдающихся типажей, коих немало приходилось мне встречать во время путешествий, остается вне сомнений, кафр-басуто[66] Квимбо, бывший, как и хаджи Халеф Омар, сопровождавший меня в странах Востока, спутником моим по Южной Африке. Было в этих людях, столь разных, что-то общее, и в душе моей не было иных чувств, к ним относящихся, кроме любви и радости, как, в свою очередь, у них по отношению ко мне.
Квимбо являл собою, особенно когда сопровождал меня верхом, крайне необычную, я бы даже сказал, необычную до фантасмагоричности, и вместе с тем забавную фигуру. Помимо ситцевого передника, обернутого вокруг чресел, никакой другой одежды у него не было; кроме того он смазывал свое темное мускулистое тело жиром, что предохраняло кожу от укусов насекомых, но и заставляло меня держаться от него на расстоянии не меньше, чем пятьдесят шагов.
Наиболее достойным внимания был вид его волос. Посредством ежедневного, годами длящегося втирания сока акаций он склеил волосы в некую компактную массу, которая придала его прическе сходство с двумя подошвами друг к другу склоненных домашних туфель, пятки которых образовывали угол, в то время как полости для ног были нацелены вверх и служили хранилищем важных для Квимбо мелочей. Растянутые на заре юности мочки ушей он по утрам сворачивал и в каждое из отверстий вставлял по одной из своих табакерок.
Помимо этого, в крыльях носа он носил массивные кольца, а изобретением его собственного эстетического гения являлся широкий ремень из подошвенной кожи, затянутый вокруг шеи, на коем была укреплена пара бубенцов; ежедневно Квимбо снимал их, чистил и водворял на место. Бубенцы при каждом движении хозяина издавали звуки, которые не только вызывали во мне крайнее отвращение, но и могли стать для нас опасными, поскольку мы находились под пристальным наблюдением недругов, которые могли угадывать наше приближение задолго до нашего появления. Я уговаривал Квимбо если не снять бубенцы вовсе, так хотя бы изъять из них языки, и то, что после длительной и упорной борьбы он уступил, говорит о его явном расположении ко мне.
Не менее своеобразной была и его речь. Он весьма сносно изъяснялся на ломаном голландском, но привитые с родным языком прищелкивания и причмокивания делали его речь похожей на стук дятла — столь дробные фразы сыпались у него изо рта. Да и рот его — сколь велик и широк был он! Увлекался ли Квимбо в разговоре, смеялся ли, улыбка, обнажая ряды белых зубов, пересекала его лицо, пролегая от уха до уха, а само лицо в эти минуты напоминало скорее физиономию некоего четвероногого, нежели человека.
Но вряд ли бы кто решился сказать ему об этом, поскольку он был чрезмерно тщеславен и тяготел не просто к красивому, но к красоте высшего ранга. Говоря о своей персоне, он именовал себя не иначе как «прекрасный», «добрый», «мужественный Квимбо». Несомненно, в суждениях своих о красоте он заблуждался, но душевной добротой природа его не обидела. В мужественность его, в коей, признаться, я сначала крайне сомневался, я уверовал чуть позже.
Квимбо был неустрашим, и если речь шла об опасности, которая могла мне угрожать, он, не задумываясь, пожертвовал бы жизнью. Я любил его всем сердцем и желал ему лишь добра, но, к сожалению, не смог помочь в трудную для него минуту.
Образно говоря, Квимбо потерял сердце; оно принадлежало красивой простодушной девушке, которую нашел один бур в Калахари еще ребенком, взял с собою и назвал Митье. Как часто слышал я вылетающие из уст кафра блаженно звучащие слова:
— Митье должна стать женой прекрасного, доброго, мужественного Квимбо, потому что Квимбо женится на красивой, юной, прекрасной Митье!
Но ему предстояло познать, что даже прекрасному, доброму, мужественному человеку, если он — кафр, доступно далеко не все, чего бы он желал. Митье стала женой молодого бура, Квимбо вынужден был от нее отказаться.
Я не знал, как утешить беднягу, к тому же подошло время мне уезжать. При расставании со мной он плакал, а лучше сказать, был оскален больше обычного. Внезапно его осенило: вынув из правой мочки табакерку, он протянул ее мне со словами:
— Дорогой добрый минхер[67] едет домой; Квимбо плачет много больших слез, потому что Квимбо не может ехать с ним, но Квимбо дает ему коробку, чтобы минхер думал о бедном, добром, прекрасном, мужественном Квимбо!
Я, конечно же, принял подарок, чтобы не расстраивать беднягу. Я был уверен, что никогда больше мне не доведется увидеть мочку, из коей эта табакерка была извлечена. Несмотря на это, мне выпала честь увидеть, причем не только эту правую, но и левую мочку, а в качестве дополнения к ним еще и всего Квимбо, и притом не здесь, в стране буров, кафров и готтентотов, но где?..
Вернемся в то время, когда мы привели «Хай-ян це» в Галле и вместе со взятыми в плен пиратами передали мудали. Мы дождались приезда губернатора Коломбо и наконец побывали на свадьбе Калади и Моламы; на протяжении всех описанных ранее событий я умышленно обходил вниманием один эпизод, освещением которого и собираюсь занять внимание моих любезных читателей.
Само собой разумеется, команду «Хай-ян це» должно было наказать; вопрос состоял в том, по какому праву наказывать.
На Цейлоне действует один свод законов — равно как для европейцев, так и для коренного населения, однако существуют особые положения для тамилов[68], которые, к слову сказать, называют свой кодекс «Савалами», и для канди[69]. Справедливости ради следует отметить, что основой для общего свода законов служат староголландские правовые источники. По английскому законодательству разбираться могут лишь вопросы судоходного и торгового, я бы даже сказал, коммерческого характера. Надо ли судить похитителей женщин по английским или по староголландским законам?
Этот вопрос был важен для чиновников, но не для Раффли и меня; нас он попросту не интересовал.
Мудали же не мог принять какого-либо решения; однако в ожидании губернатора он вынужден был заботиться о том, чтобы преступники не улизнули. Он разыскал нас в отеле «Мадрас» в надежде получить совет от Раффли. Единственное, на что мудали мог решиться, — это посадить преступников на джонку и приставить к ним усиленную охрану. Раффли ничего не сказал на этот счет, однако вел себя так, будто визит к нему мудали с просьбой о помощи — вещь сама собой разумеющаяся. Помедлив немного, он обернулся ко мне:
— Чарли!
— Сэр! — в тон ему откликнулся я.
— Что вы об этом думаете?
— Ничего.
— Гм! Но у вас должны же быть какие-то соображения.