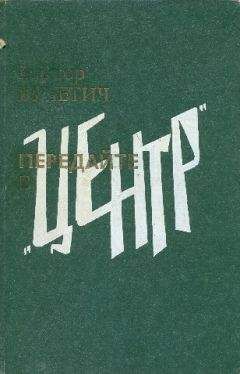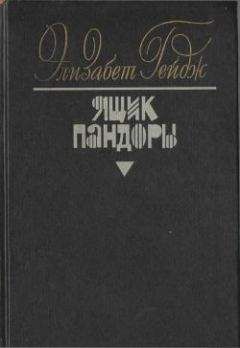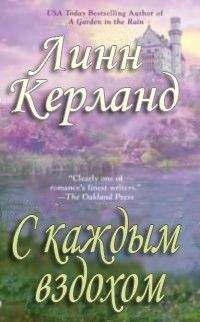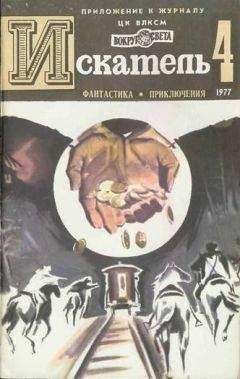Михеев ушел, а Сибирцев углубился в изучение бумаг, изредка делая для себя короткие пометки карандашом. Работа была трудная и спешная, и он полностью ушел в нее. От нее зависело теперь все: успех операции или полный ее провал. Десятки фактов, дат, фамилий укладывались в его мозгу, приобретая строгую последовательность, свою четкую логику.
Шло время. Сибирцев не видел, как вернулся Михеев, принеся с собой миску каши, прикрытую другой такой же миской. Не слышал, как шепотом, настороженно глядя на Сибирцева, отвечал Михеев на телефонные звонки.
Сибирцев нещадно дымил, сворачивая одну за другой самокрутки. Постепенно вырисовывалась перед ним панорама глухих заснеженных лесов, редких деревень и хуторов, скрывающих огромные воинские силы, массу оружия. Кулацкая Тамбовщина… Волчье логово. За мешок пшеницы горло перервет. И вся губерния, словно незримыми прочными нитками, прострочена тайными связями. А на концах этих связей — взрывы, убийства, пожары, грабежи, невероятные насилия…
Очередной требовательный звонок ворвался в сознание Сибирцева, оторвав его от бумаг. Он взглянул на Михеева, нахмурился.
Тот снял трубку, откашлялся.
— Михеев слушает… Так. Ясно. — Он повесил трубку и кивнул Сибирцеву: — Ну, Мишель, не успел ты поесть. Придется позже. Все бумаги срочно в сейф, потом досмотришь. А теперь айда со мной. Зовет Феликс Эдмундович.
4
Экстренный поезд пришел в Козлов после полуночи. Михеев растолкал, растормошил Сибирцева.
— Вставай, вставай, господин прапорщик, — посмеивался Михеев, он имел вид отлично выспавшегося человека.
— А сам какой? — лениво огрызнулся Сибирцев и сладко, с наслаждением потянулся на свежих жестковатых простынях, радуясь последним остаткам сна и словно догадываясь, что подобное счастье может не повториться. Не будет больше ни литерного вагона, ни свежих простынь, ни упоительного наслаждения быть самим собой.
— Что ж в том позорного, — широко улыбнулся Михеев. — Я, ваше благородие, горжусь тем, что на германской начинал с прапора. Уж чего-чего, а первая-то пуля всегда твоя. Разве не так?
— Храбрости тебе не занимать. Умишка бы… — Сибирцев рывком поднялся, едва не стукнувшись теменем о верхнюю полку.
— Ну, насчет умишка, — капризно надул губы Михеев, — тут вы, конечно, правы. Уж вы-то вовремя смылись. Хотя, кто знает, были бы у атамана наверняка в чине полковника. Генерала — нет, не потянете. Там, знаете ли, порода нужна. А у вас какая порода? Лапоть вы сибирский.
— Ладно, лапоть так лапоть, — усмехнулся Сибирцев. — Семенова, между прочим, верховный генерал-лейтенантом сделал. Вот так. А он — наполовину бурят. Где ж логика?
— А тут своя логика. “Без доклада не входить, а то выпорю!” Помнишь? Во! Как при такой широте взглядов не стать генералом? Очень даже надо быть генералом. Спит сейчас, поди, твой-то атаман на станции Маньчжурия и видит себя в Москве белокаменной под перезвон всех сорока сороков. Вот он спит, а ты поэтому кончай спать. Протри глаза, умойся и пошли завтракать. Или ужинать, бес его знает. Все перепуталось.
— Где мы, уже в Козлове? — Сибирцев только сейчас заметил, что поезд стоит.
— Да, — сразу посерьезнев, сказал Михеев. — Давай-ка, Мишель, одевайся быстрей. Мартин Янович ждет.
Он присел на соседнюю полку и, вынув из внутреннего кармана кожанки металлическую пилку, стал тщательно подтачивать ногти.
Сибирцев не мог понять, каким образом Михееву удается сохранять свежий и бодрый вид. Ни тени усталости. Сам же Сибирцев утомился до предела. И в Москве, и тут, в поезде, работал беспрерывно и, если бы не приказ Лациса, так бы и не коснулся головой подушки. Сколько он спал: час, два — он не знал. И сон не только не освежил, но расслабил, и все тело теперь было мятым, ватным.
— Прибыли, значит, ваше благородие, — задумчиво сказал Михеев. — Вспоминать-то хоть будете?.. Хотя зачем? Воспоминания только отягощают нашу и без того суматошную жизнь. Думать мешают. А мы с вами старые боевые кони. И скакать еще, и скакать…
— Ну тебя, Володька, к черту! — рассердился Сибирцев. — Не порть настроения. И так, понимаешь…
— А хорошо мы поработали. Без похвальбы, хорошо, — Михеев замолчал, глядя, как Сибирцев одевается, закручивает портянки. — Сапоги-то худые, — вдруг пробормотал он. — Знаешь что, Мишель, возьми-ка мои. Размер у нас, вижу, одинаковый. — И он тут же стал стягивать свой надраенный до блеска сапог.
— Ты чего, спятил? Какие сапоги? — опешил Сибирцев. — Не валяй дурака.
— Делай, что говорю, — словно обозлился Михеев. — Я ему, может, жизнью обязан, а он про какие-то вшивые сапоги. Запомни, заместитель Гривицкого в лаптях не ходит. А обо мне можешь не беспокоиться. Сегодня твои сапоги не развалятся, а завтра где-нибудь раздобуду. Я, как говорит Мартин Янович, совсем неисправимый. На худой конец, у какой-нибудь богатой бабы обувкой обеспечусь. За ласку. Они, брат, за ласку — чего хочешь, не только сапоги… Да шучу! Не делай страшные глаза. Для своих бандитов прибереги. Неужели ты думаешь, что для меня пары сапог не найдется? В той же Москве, на Сухаревке? Или на Хитровке? Вот вернусь и добуду. Давай сюда свои.
Сапоги Михеева удобно и плотно сидели на ноге. Сибирцев встал, с удовольствием притопнул каблуками по полу, затянул на поясе ремень и с неловкой признательностью взглянул на Михеева, на свои старые, разбитые сапоги, так не вязавшиеся с лощеной внешностью друга.
— Вот, значит, как, — смущенно сказал он. — За сапоги, брат, спасибо. В самый, что называется, раз сапоги.
— Ладно, — отмахнулся Михеев, — ступай давай. Я тебя потом провожу…
Потирая виски, Сибирцев прошел в середину вагона, в просторный салон особоуполномоченного ВЧК. Он даже зажмурился от яркого света, заливавшего плотно зашторенное помещение. Вытянулся у дверей по стойке “смирно” и хотел было доложить о приходе, но Мартин Янович сам стремительно поднялся из-за стола, заваленного письмами и какими-то документами, поверх которых, свисая на пол, лежала большая карта.
— Явился, богатырь? — без тени иронии, твердо выговаривая слова, сказал Лацис. — Проходи, пожалуйста. Садись вот здесь. — Он показал на широкое мягкое кресло, совсем не вязавшееся со строгой рабочей обстановкой кабинета. — Давай будем говорить на прощанье.
Он снова сел за стол, положил длинные руки с широкими кистями на карту и остро взглянул на Сибирцева.
— Я знаю, что все материалы, которые тебе дали, ты проработал. Это очень хорошо. Но теперь, — Лацис сделал небольшую паузу, — наш план будет меняться. Временно.
Сибирцев насторожился. Он все еще не мог сосредоточиться после сна. И кресло это — мягкое, расслабляющее. Он попробовал выпрямиться, но кресло словно не отпускало. Так и хотелось закинуть ногу за ногу.