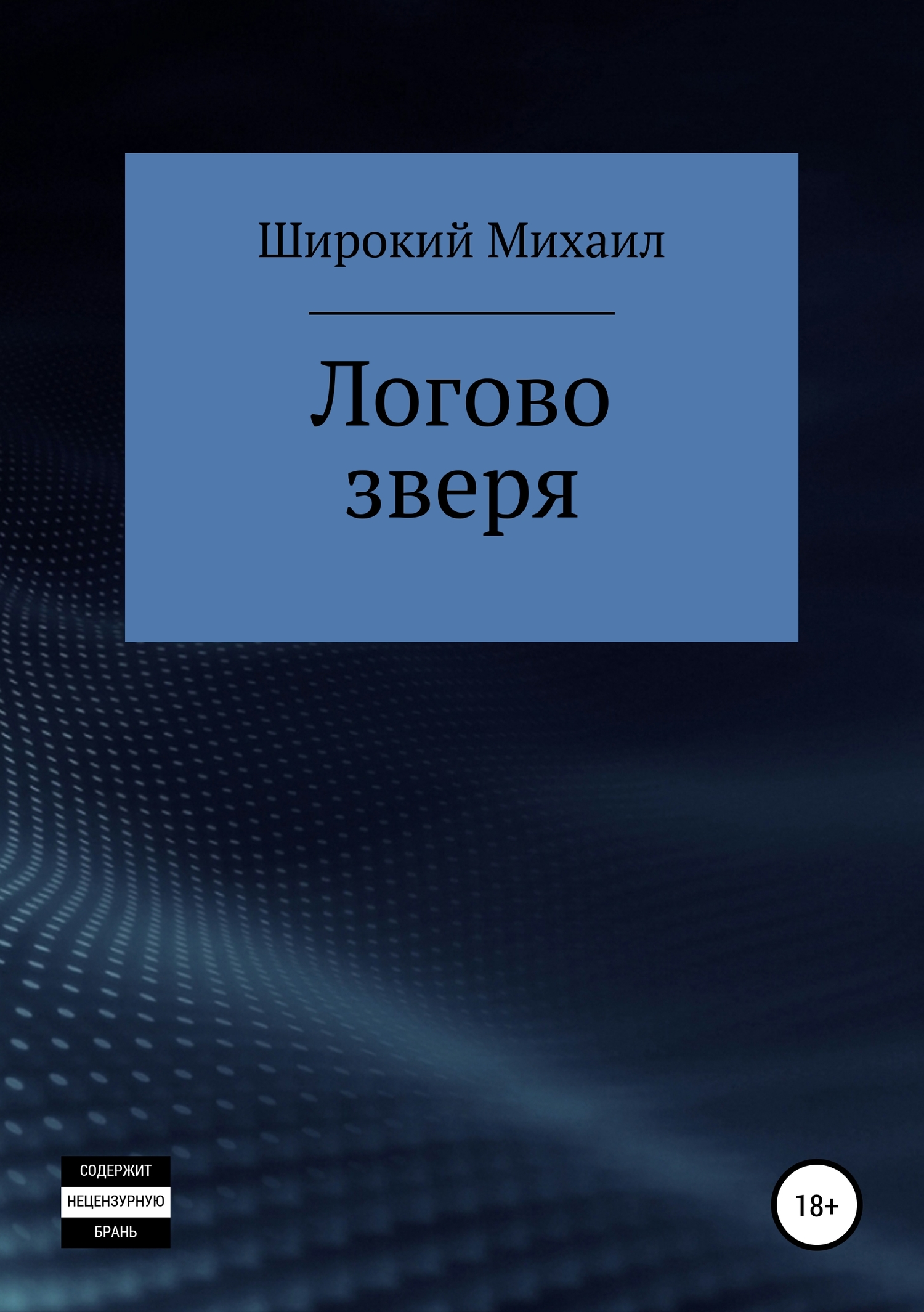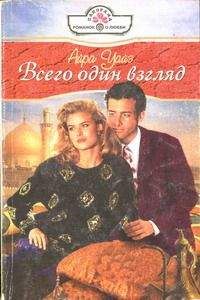святое дело! Да, да, святое, я не преувеличиваю. Нужно очистить нашу землю от этих паразитов! И как можно скорее, в предельно сжатые сроки. Время не терпит. Нечего, как это – чего уж там греха таить – водится у нас, раскачиваться, рассусоливать и тянуть чёрт знает сколько. Потому что это преступники! Самые настоящие преступники, с которыми необходимо вести такую же борьбу, как с ворами и убийцами. Чёрные копатели ничем не лучше. В чём-то даже хуже. Они нагло, подло, цинично расхищают наше национальное богатство, наше наследие, наше прошлое! А что может быть дороже этого? Это бесценно!.. А значит, мы должны твёрдо, как скала, встать на защиту нашей истории, наших предков. Не быть Иванами, родства не помнящими. Мы обязаны встать на пути у этих негодяев. Им нужно нанести такой удар, от которого они уже не оправятся. Который похоронит их раз и навсегда, чтобы и духу их больше не было. Тунеядцев уже прижучили, теперь пора взяться за этих прохвостов… Вот так вот!
Иван Саныч перевёл дыхание, отёр со лба выступившие на нём капли пота и вновь обвёл окружающих зорким, пронзительным взором, будто проверяя, какое впечатление произвела на них его речь. И удовлетворённо кивнул, увидев восхищённые лица, льстивые, заискивающие улыбки, широко распахнутые, горевшие верноподданическим энтузиазмом глаза.
И только Рыгорыч несколько портил картину, выглядя резким диссонансом на фоне всеобщего восторга и обожания. Он, как и прежде, был хмур, угрюм, чем-то неудовлетворён, что выражалось в мрачных взглядах, бросавшихся им вокруг, и невнятном сердитом брюзжании, издававшимся им.
Но, вероятно, Рыгорычу отчего-то было разрешено больше, чем остальным, так как его нескрываемое, демонстративное недовольство, которое явно не сошло бы с рук другому, ему дозволялось. Иван Саныч лишь на секунду сдвинул брови, когда его взгляд скользнул по кислой, скривившейся физиономии Рыгорыча, и, очевидно, тут же забыл о нём, как о чём-то незначительном и малоинтересном, что не заслуживает особого внимания.
Затем его светлый, благостный взор опять упал на сгрудившихся в яме практикантов, которые, пользуясь тем, что начальство на время забыло о них, немедленно бросили работу и с интересом наблюдали за происходившим на поверхности земли, балагуря и отпуская солёные остроты. Увидев такую безалаберность и откровенную наглость, попахивавшую явным неуважением к власть предержащим, Иван Саныч вновь вспыхнул, как солома, и взревел громовым голосом:
– Да что ж это такое?! Вы совсем охренели, что ли, бандерлоги? Вообще совесть потеряли? Для вас, гляжу, уже ничего святого в этой жизни нет?.. Я, я сам, собственной персоной, приехал к вам, бездельникам, разоряюсь тут перед вами битый час, учу вас, одноклеточных, уму-разуму… А вы что? Зубы скалите и рожи корчите!.. А ну за работу, мать вашу разэтак! – взвизгнул шеф, покраснев, как помидор, и вылупив налившиеся кровью глаза. – Я с вами нянчиться больше не буду! Раз не понимаете по-хорошему, будет по-плохому. Не хотите работать нормально, будете ишачить из-под палки, как римские рабы. Это я вам обещаю! Лёха, проследишь!
– Слушаюсь, шеф! – вытянувшись по струнке, звонко выкрикнул Лёша, внутренне содрогаясь и трепеща, как лист на ветру, в страхе, как бы вновь возгоревшийся вельможный гнев опять не обратился против него.
Однако его опасения были напрасны. Негодование и ярость Ивана Саныча на этот раз были направлены исключительно против неблагодарных, никчёмных, бесшабашных студентов, почему-то упорно не желавших работать задарма и всеми возможными способами норовивших увильнуть от тяготившей их повинности. Он вопил, брызгал слюной, размахивал руками, топал ногами и бегал по краю раскопа, грозя сжатым кулаком столпившимся внизу «тунеядцам», которые, стиснув зубы, с издевательскими усмешками смотрели на него, спокойно ожидая, когда буря утихнет.
И она действительно вскоре стала утихать. Движения шефа становились всё менее энергичными, голос слабел и всё чаще срывался, яркий кирпично-красный цвет лица бледнел. Какое-то время он ещё продолжал ураганить и метаться туда-сюда, но уже как-то без огонька, будто по инерции. И, наконец, остановился, постоял несколько секунд, будто охваченный внезапным раздумьем, и, тряхнув головой, медленно двинулся сквозь толпу своих приближённых, которые почтительно расступались и давали ему дорогу.
– Ф-фу, устал я сегодня, переутомился, – совсем другим голосом, как будто не своим – негромким, размеренным, спокойным, – говорил он, мимоходом пробегая взглядом по обращённым к нему внимательным, предупредительно улыбавшимся лицам. – Ведь день на ногах, в трудах и заботах. И если б только этот день! Работаю ведь на износ, света божьего не вижу. Верчусь, как белка в колесе. Даже ем на бегу, урывками… И сплю обычно, как простой студент, как и вы все, в палатке, на голой земле, подложив под голову какое-то тряпьё… Потому что я, в отличие от многих других, демократичен, не задираю нос и не отрываюсь от масс. Я вместе со своим народом, я часть его, как говорится, плоть от плоти…
С этими словами, относившимися уже будто не к окружающим, а к самому себе, Иван Саныч приблизился к своей машине, большому чёрному внедорожнику с тонированными стёклами, и коротко скомандовал водителю:
– В гостиницу.
Затем мельком взглянул на трусившего за ним полусогнутого Лёшу и, значительно шевельнув бровью, обронил:
– Смотри мне тут! Чтоб всё было… Ну, короче, ты понял.
– Понял, шеф! – немедленно отозвался Лёша, открыв заднюю дверцу и согнувшись ещё ниже. – Всё будет безупречно, идеально… Вы останетесь довольны мной. Я тут в лепёшку расшибусь…
Иван Саныч, уже явно не слушая его, равнодушно кивнул и, поместив своё увесистое холёное тело на мягкое кожаное сиденье, небрежно махнул верному слуге рукой. Тот, воскликнув: «До свиданья, шеф! Счастливого пути!», захлопнул дверцу. Машина тут же тронулась с места и, понемногу набирая ход и чуть покачиваясь на ухабах, покатилась по длинной, убегавшей вдаль и затем углублявшейся в лес просёлочной дороге. И всё то время, пока она была в поле зрения, Лёша глядел ей вслед влюблёнными, радостно поблёскивавшими глазами и делал рукой плавные, размашистые прощальные движения.
После отъезда высокого гостя ещё некоторое время сохранялась напряжённая, гнетущая атмосфера, точно после стремительно пронёсшегося разрушительного смерча. Все говорили полушёпотом, насторожённо оглядываясь, словно опасаясь, что их кто-то может подслушать. И даже движения у всех поначалу были какие-то скованные, несмелые, заторможенные. Настолько велики были авторитет и значение уехавшего вельможи, что даже теперь его незримое присутствие как будто ощущалось всеми. В тускневшем, пронизанном косыми лучами вечернего солнца воздухе словно бы всё ещё носилась его крупная мясистая физиономия с выпученными глазами и разинутым ртом, а в ушах по-прежнему стоял его резкий, крикливый, громогласный баритон.
И лишь спустя какое-то время люди стали оттаивать и