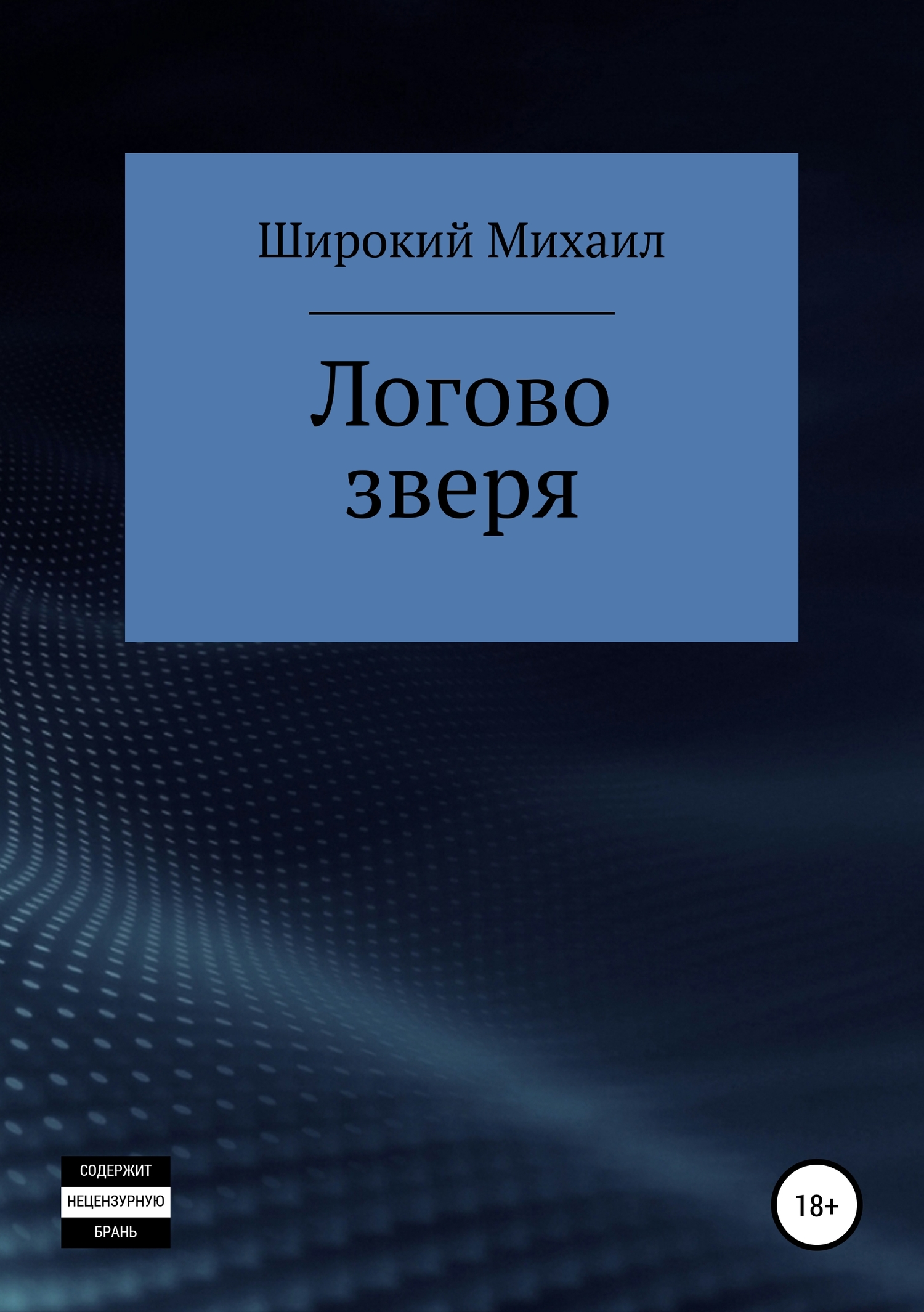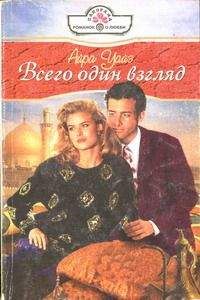и пряник иногда нужен, как же без этого?
Лица присутствующих немедленно, как по команде, также расплылись в угодливых, подобострастных улыбках, а головы усиленно закивали, так, чтобы у шефа, не дай бог, не возникло подозрения, что кто-то не согласен с ним. Исключение составлял лишь Рыгорыч, стоявший с недовольным и пасмурным видом и даже не пытавшийся изобразить радость и удовольствие в связи с приездом «главного» и согласие с его тезисами. Видимо, он был здесь единственный, кому по какой-то неведомой причине было дозволено быть самим собой и выказывать своё истинное отношение к происходящему.
Но его отношение, по-видимому, совершенно не интересовало Ивана Саныча. Он лишь мимоходом, безразлично скользнул по угрюмой физиономии Рыгорыча, словно того и не было, и, чуть нахмурясь, бросил взгляд по сторонам.
– Ну, где там этот бездельник? Долго мне ждать?
Долго ждать не пришлось. Лёша, прекрасно зная, что его шеф, как и любой уважающий себя начальник, любит, чтобы его распоряжения выполнялись молниеносно и крайне болезненно реагирует на малейшее промедление со стороны подчинённых, действовал с поразительной энергией и сноровкой. С помощью нескольких своих подручных (и по совместительству собутыльников) он за считанные минуты переловил почти всех практикантов, которые по своей студенческой беспечности и легкомыслию не удосужились укрыться как следует и слонялись мелкими группками неподалёку, часто в пределах видимости, в результате чего быстро и без особого труда были блокированы и схвачены ретивым Лёшей, которому страх перед грозным руководителем придал ещё большей резвости, и его верными соратниками. Избежать пленения удалось лишь самым предусмотрительным, вовремя принявшим меры предосторожности и скрывшимся в бесчисленных окрестных зарослях, где их не смогла бы отыскать даже самая опытная и чуткая ищейка.
Пойманные же, унылые, понурые, расстроенные, были, как стадо баранов, с окриками и понуканиями загнаны в яму и, вооружившись копательными принадлежностями, присоединились к Владику и его напарнику, всё это время ударно, не разгибаясь и обливаясь потом, трудившимся на глазах у самого Ивана Саныча, который, правда, вряд ли обратил внимание на их титанические усилия. Но для Владика и его безвестного старательного друга это, очевидно, было не так уж и важно: их грела, утешала и вдохновляла, наполняя гордостью и умилением, одна лишь мысль, что они работают пред очами великого, блистательного, несравненного Ивана Саныча!
Тот между тем, наблюдая, как раскоп наполняется людьми, вяло, явно без всякой охоты принимавшимися за работу, вновь ощутил угасшую было ярость. Лицо его опять покраснело и разбухло, глаза округлились и засверкали, и, найдя новый объект для своего гнева, он заорал что было мочи, явно играя (как обычно, впрочем) на публику:
– Ах вы паразиты, лодыри, лежебоки! Вы совсем, я смотрю, охренели. Вконец обленились и разложились тут. Вы только баб умеете трахать, а потрудиться на благо Родины никто не хочет. Что, страх потеряли?.. Так я покажу вам щас мать Кузьмы! Я научу вас работать! Вы у меня тут с рассвета дотемна пахать будете, жить будете в этом сраном раскопе. Час на обед и отдых – и снова вкалывать. И так каждый день, до конца практики. Чтоб до кровавого пота!.. А ты проследишь, – он упёрся в Лёшу пылающим взором, от которого тот снова весь съёжился и затрепетал. – Головой своей отвечаешь, ясно тебе?.. Учти, Лёха, ещё один прокол – и вылетишь отсюда, как пробка. Не посмотрю на все твои прошлые заслуги и верную службу. За безалаберность, лень и наплевательское отношение к делу буду карать беспощадно, по всей строгости…
Тут его негодующая речь прервалась, и он, ещё больше побагровев и выпучив глаза, вдруг зашёлся долгим натужным кашлем, сотрясшим всё его крупное, полнокровное тело. Несколько раз кашель утихал было, и Иван Саныч пытался продолжить говорить, но вновь начинал задыхаться и хрипеть, размахивая руками и сердито притопывая ногой.
Окружающие реагировали на это по-разному. Люди из свиты – с показным сочувствием и беспокойством, едва скрывая так и рвавшиеся наружу усмешки. Студенты, силком загнанные в яму и вынужденные интенсивно, в грязи и в поту, работать на солнцепёке, – с нескрываемым злорадством и издёвкой, исподволь ухмыляясь и понимающе перемигиваясь между собой. Юра вообще был равнодушен к происходящему, глядя на всё это глазами стороннего наблюдателя, силою обстоятельств оказавшегося свидетелем чужих разборок, совершенно его не касавшихся и вызывавших у него в лучшем случае праздное любопытство. И только Лёша и Владик со своим другом не спускали с шефа тревожных, соболезнующих, преданных взглядов, готовые в любой момент, по первому требованию броситься ему на помощь, в случае если бы таковая оказалась необходимой.
Но, к счастью, она не понадобилась. Всё обошлось. Иван Саныч наконец прокашлялся и, обведя кругом себя затуманенными, слезящимися, будто невидящими глазами, с натугой прохрипел:
– Лёша!
Лёша тут как тут – прямая спина, руки по швам, внимательный, ничего не упускающий, искательный взгляд.
– Слушаю, шеф!
– Устал я сегодня, вымотался, – проговорил Иван Саныч слабым, прерывающимся голосом, покачивая головой и тяжко отдуваясь. – Всё дела, дела… ни минуты покоя… Служу Родине, не жалея сил… А тут ещё жара эта, чёрт бы её побрал… Дышать невозможно… И ты ещё ко всему прочему расстроил меня! Относишься к своим обязанностям халатно, работаешь спустя рукава, абы как…
– Простите, шеф… – пискнул было Лёша с сокрушённым видом, виновато понурив голову.
Но хозяин резко оборвал его:
– Заткнись и слушай меня, когда я говорю! Повторяю: работаешь из рук вон плохо! Распустился ты, Лёха, расслабился. Привык к моей доброте да ласке, вот и обнаглел. Вообразил, что тебе всё позволено, что можешь жить, как хочешь, что ты царь горы… А вот и ошибаешься, дружок: царь горы – это я! И без меня, без моей милости и поддержки ты – никто, пустое место, зеро. И нихрена ты не можешь и не смеешь без моего позволения. И я, если только захочу, в любой момент, одним своим словом, одним жестом могу уничтожить тебя, стереть в порошок, снова превратить тебя в то ничтожество, каким ты был когда-то…
– Не надо, шеф, – проскулил Лёша, весь согнувшись, сжавшись, уронив голову ещё ниже и всей своей хилой, согбенной фигуркой являя как бы воплощённое сожаление и раскаяние.
И Иван Саныч, то ли действительно смилостивился, глядя на это скорчившееся у его ног жалкое подобие человека, то ли просто утомился и спешил убраться отсюда поскорее, не стал продолжать свои укоры, слегка усмехнулся и снисходительно бросил с высоты своего величия:
– Ладно уж, прощаю. Добрый я сегодня… Но в другой раз берегись, – тут же оговорился он, покрутив у Лёшиного носа толстым волосатым пальцем,