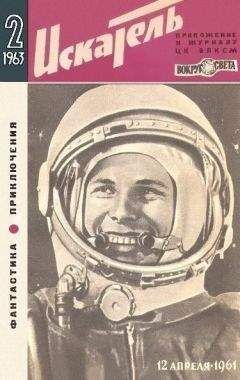Видя, что Кирилл Андреевич успокоился и не станет более откладывать важного разговора, Василий Петрович снова вернулся к проблеме шелкопряда.
Они проговорили, что называется, до первых петухов.
* * *
Главная мысль — необходимость найти слабое место в развитии шелкопряда — была осознана.
Талаев понял, что сначала занимался септицемией как эмпирик, как наблюдатель процесса, собирающий факты, и лишь с недавнего времени как диалектик, ищущий основу явления.
Устойчивость шелкопряда к бациллюсу дендролимусу представилась ему в новом свете. Обильная пища, отличные условия существования помогали гусеницам успешно бороться с заболеванием.
Да, надо было искать периоды в жизни шелкопряда, когда он оказывался слабым, неподготовленным к встрече со своим врагом — бациллой. Во время межлетного года гусеницы имеют прекрасную пищу, хотя и оказываются наиболее уязвимыми для заражения. Затем — летный год. Весной перезимовавшие под снегом гусеницы вновь набрасываются на кедры, затем окукливаются и к середине лета превращаются в бабочек.
А может быть, дело и в том, что гусеницы малоподвижны, отползают недалеко? Нет контакта между заболевшими и здоровыми особями? Раз нет контакта, то трудно ожидать эпидемии.
Смерть десятков, даже сотен гусениц среди бесчисленных полчищ настолько малая утрата, что ее не имеет смысла учитывать.
Талаев решил во что бы то ни стало отправиться в новую экспедицию.
Ранней весной из Читинского опорного пункта приехал с запиской от Болдырева младший научный сотрудник Лурье.
Худощавый и элегантный молодой человек, видимо, впервые выполнял столь ответственное поручение, как сбор гусениц. Он спросил у Василия Петровича:
— Где мне лучше выбрать особей? Я имею в виду наиболее крупных и здоровых.
— К сожалению, где угодно.
— Меня бы интересовало ваше конкретное мнение, как крупного специалиста в этой области.
— Поезжайте хотя бы в Быструю. Там их сколько угодно. Я убедился в этом в прошлом году.
— Благодарю вас.
— Право, не за что.
В мае и сам Талаев выехал в тайгу. В одном из очагов он собрал около десяти тысяч гусениц в ящик и отправился с ними в молодой кедрач, чтобы разобраться в миграции — передвижении и распространении гусениц — на опытной делянке.
Всю дорогу, пока Талаев ехал на телеге вместе с лесником, за спиной Василия Петровича слышался глухой угрожающий шум. Это двигались и царапались о стенки ящика гусеницы.
Сняли ящик с телеги. Шелкопряд зашипел еще грознее. Казалось, ящик разорвется от их ярости.
— Что ж, Степаныч, бери топор, открывай крышку. Лесник сходил к телеге за топором, подошел к ящику, помялся.
— Нет, Петрович, я эту пакость не стану открывать. Ишь, как ярится! Хоть убей — не могу.
— Давай топор.
Талаев поддел крышку и одним махом откинул ее.
Черная шипящая лавина гусениц перевалила через край. Лесник бросился наутек. Талаев оказался в самой гуще быстрых изголодавшихся тварей. Гусеницы облепили его. Они, выгибая свои волосатые тела, за секунды добрались до плечей, ползли за шиворот, в рукава. Талаев зажмурился, ощущая их холодные прикосновения на шее, руках, спине. Его охватило чувство омерзения и гадливости, и не хватало сил, быстроты движений, чтобы скинуть с себя нечисть.
«Только не открывать глаз!» — твердил про себя Талаев, сбрасывая гусениц.
Минут десять протянулось, пока поток черно-серебристых тварей прошел мимо. Не открывая глаз, Талаев попробил лесника отвести его к ключу и тщательно вымыл лицо. Если бы волоски гусениц попали в глаза, то жестокое воспаление могло кончиться слепотой.
Но все обошлось благополучно.
— Ух, и испугался я за тебя! — приговаривал лесник. — И помочь нечем. Всего облепили.
— Это они со злости, — отшутился Талаев, — что не даю им спокойно жить.
— Эх, насмотрелся я на них за свою жизнь! Нет на эту гадость управы. Кажется, увидел бы их подохшими — и рога в землю.
— Что ты, Степаныч, — Талаев похлопал по плечу лесника. — Не стоит так быстро. Вот разделаюсь с шелкопрядом, примусь за другую погань таежную.
— Это за какую же?
— Ну, я еще не справился с шелкопрядом… Хотя… раз никто, кроме тайги, нас не слышит, скажу… За гнуса. Пора нам очистить от него тайгу.
— Ишь, вы куда! — неожиданно перейдя на «вы», воскликнул Степаныч.
— А что? Мы же с тобой еще молодые. Пять десятков с половиной — разве это лета? Рано нам «рога в землю». Дел-то сколько! Ну, пойдем гусениц считать, а то расползутся — и не найдешь.
Палатку разбили неподалеку от опытного участка.
В первый же день гусеницы обглодали два молодых кедра.
После заражения их препаратом бациллы дендролимуса они, как показалось Талаеву, с еще большим азартом принялись за хвою. Однако, вскрывая этих тварей, Василий Петрович неизменно находил в них бациллы дендролимуса. Микробы словно притаились до поры до времени.
Год для сибирского шелкопряда был межлетный. Обычно в это время никаких опытов не проводилось: слишком коротким был срок — едва выбравшись из моховой подстилки, гусеницы отъедались и заворачивались в коконы, чтобы через месяц вылететь из него бабочкой.
Однако у Талаева был свой расчет. Ему хотелось посмотреть, как ведет себя дендролимус во время превращения гусеницы в бабочку. Ведь в этот период организм гусеницы перестраивается целиком — органы претерпевают коренные изменения.
И вот на одиннадцатый день Василию Петровичу попалась на глаза первая вялая гусеница.
Он принес ее в палатку, положил на стол и почувствовал, что не сможет тотчас приготовить препарат. От волнения дрожали руки. Он хлопнул себя по карману. Вспомнил, что полгода назад бросил курить. Чертыхнувшись по адресу Ивана Ивановича, Талаев прошелся у стола, несколько раз глубоко вздохнул, точно собирался броситься в холодную воду, и принялся за шелкопряда.
На серебристом поле в окуляре микроскопа он увидел знакомую до мельчайших подробностей палочку — бактерию. Еще, еще… Они занимали все поле. Вдруг пропали.
Талаев принялся вращать винт микроскопа, но бактерий не было. На серебристом поле ползали какие-то тени. Он отшатнулся от окуляра. И предметы в палатке виделись в каком-то тумане.
Василий Петрович вытер тыльной стороной ладони глаза и выругался про себя: «Нервы! Проклятущие нервы!»
Вечером того же дня несколько дохлых гусениц принес Степаныч:
— Дохнут! А вы говорили: не знаю!
Гусеницы подыхали. Они гибли перед окукливанием, гибли в коконах, повисших на хвое.