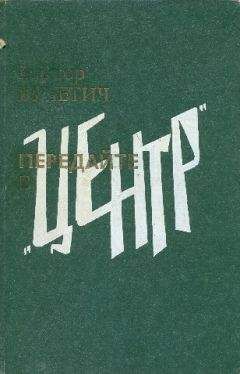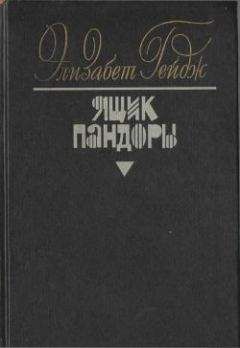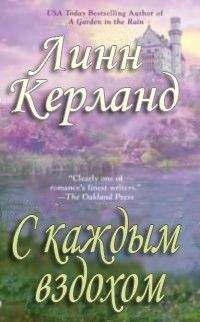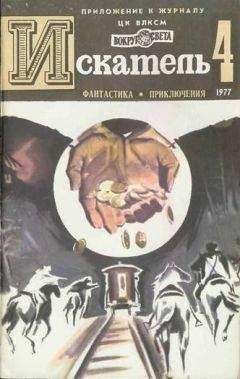— Все, что ль? — Сибирцев нахмурился.
— Все, а что?
— Ну, ладно, давайте прощаться. Ты потом, Илья, ежели чего, о Маше побеспокойся.
Илья помрачнел.
— А это, — Сибирцев раскрыл бумажник, извлеченный перед обедом из тайника в террасе, и вынул мандат, подписанный Дзержинским, — ты его сохрани, однако, в случае чего, сам знаешь, как с ним поступить. — Он пожал Ныркову руку и добавил с усмешкой: — И платок свой спрячь подальше…
Маша сидела на ступеньках крыльца, сжав лицо ладонями. Сибирцев подошел, присел рядом, положил ей ладонь на плечо и почувствовал, как девушка вздрогнула.
— Машенька, — сказал он после паузы, — сейчас я вам скажу кое-что, а вы это крепко запомните. Можно?
Маша подняла к нему большие, в наступающих сумерках, и темные глаза и пристально, с глубокой затаенной болью посмотрела на него.
— Доктор уехал в Сосновку. Он проездом тут был, посмотреть меня. Сказал, что все хорошо и дело пошло на поправку. Я — бывший белый офицер, друг вашего брата — и все. Я через доктора кинул вам весточку, вы меня взяли на излечение… Вот это же все должна знать и ваша мама. И ни слова больше. Вы меня поняли? Вы сами должны сказать ей об этом, чтобы она поверила, если есть какие-то сомнения… Иначе всем нам может быть крышка.
Девушка внимательно, словно впервые узнавая, глядела на него и безмолвно кивала.
— И еще одно обстоятельство. Мне необходимо найти в вашем доме какое-то убежище, чтобы его никто, кроме вас, не знал. Вспомните, пожалуйста, детство, куда вы прятались от родителей? Такое место, повторяю, чтоб ни одна живая душа не отыскала. Ни одна.
Маша положила легкую, вздрагивающую ладошку на его сжатый, упертый в колено кулак.
— Хорошо, я покажу вам такое место. Пойдемте ко мне в мансарду.
9
Пришла ночь. Спала дневная духота, посвежело. Из низины потянуло туманом, легким таким, чем-то напоминающим дымок от малого костра. Один за другим гасли огоньки в домах, и устанавливалась тишина недоброго, напряженного ожидания. Даже собаки перестали брехать. Застыли, всматриваясь в темноту, дозорные в церковном дворе, на крыше и колокольне, в помещении сельсовета заняли свои посты вооруженные люди, притаились, нечаянно мелькая огоньком самокрутки и настороженно покашливая. А ночь шла. Майские ночи коротки. И вскоре уже, должно быть, просветлело на востоке, потому что проявились темные силуэты крыш и деревьев. Вот тут и потянуло в сон по-настоящему.
Баулин с Матвеем обошли посты, постояли молча посреди площади, вольно дыша прохладным воздухом, пахнущим улегшейся пылью и ароматом отцветающей в низине сирени, и разошлись по своим местам: комиссар — в сельсовет, а кузнец — на колокольню.
Не раздеваясь, только слегка отпустив ремень, лежал на кровати Сибирцев и чутко прислушивался к ночным звукам, доносящимся сквозь приоткрытое окно. Дверь на террасу была заложена щеколдой. Невольный арест и полдневное лежание в чулане, как видно, обернулись пользой: тома духота сморила и кинула в сон, а теперь не было его ни в одном глазу. Слабо шелестела сирень в саду Где-то подальше, может быть в кроне лип, возились и негромко попискивали ночные пичуги. Но все это были обычные мирные звуки, они лаской и покоем отдавались в ушах. Сибирцев же томительно выискивал и ждал только те, которые должны были нести с собой страдания и большую беду. Возможно, это будет осторожный и оттого пронзительно громкий в ночи скрип рассохшейся ступеньки под вкрадчивым сапогом или быстрый, скользко рвущийся шепот, короткий, как вспышка, звук металла, отдаленное конское ржание или оборванный, предсмертный всхлип убитого человека. Казалось, весь жизненный опыт солдата и чекиста Сибирцева сфокусировался сейчас в слухе, в ожидании глухого, в туманной пойме, или звонко треснувшего, на взлобке, винтовочного выстрела. Но — тишина. Она успокаивала, и, чтобы не расслабиться, не забыться, Сибирцев вспоминал и думал, сдерживая дыхание и глядя в темный потолок.
Просмотренные вечером газеты, целую кипу которых привез Нырков, обрадовали, конечно, но и заставляли крепко задуматься о будущем Напечатанные на тонкой, почти папиросной бумаге, сведения из всех уездов Тамбовской губернии, из Москвы, Петрограда, из-за границы говорили о том, что битва, и тайная, и явная, не прекращается ни на миг. С одной стороны, собравшиеся на митинг, скажем, в Борисоглебске четыреста дезертиров клянутся искупить свою вину перед республикой, а в это же время комитет эсеровской партии приглашает членов бывшей “учредиловки” приехать в Париж для того, чтобы объявить о создании нового русского правительства. Это ж надо! В каждом номере короткие некрологи и сообщения об убийствах местных, советских и партийных работников. Вот и недавно ворвались антоновцы в деревню Токаревку, резали рты, ремни со спин, икры, кололи глаза. “Все убитые товарищи, — пишет газета, — не коммунисты, а беспартийные По оголтелая банда не щадит никого мало-мальски прикосновенного к рабоче-крестьянской власти”. Но это бандиты, понятно. А в Моршанске революционный военный трибунал приговорил милиционера Сосновского района Фомина — это уж вовсе рядом, где-то, считай, под боком, — к расстрелу. Бандит Фомин, оказалось, виновен в самоличных обысках, грабежах и мародерстве. Вишь, как получается. Они — эти Фомины — понимают, что Советская власть, конечно, побеждает, ну и стремятся проникнуть на ответственные посты. Не важно какие, им лишь бы власть. Сколько еще всего менять придется, сколько потерь впереди…
Страна понемногу налаживает жизнь свою. Но бедность, нищета… Вот в Козлове, на очередном субботнике, домашними хозяйками починена тысяча штук красноармейского белья. Вишь, чего достигли! А в Константинополе спекулянты перепродают друг другу разные суда русского флота. И бывший министр Врангеля официально заявил, что военный флот будет передан Франции для возмещения ее расходов по содержанию врангелевских войск. В самой же Франции проходят демонстрации в поддержку Советской России, вспыхнуло революционное движение в Китае и Японии, волнения в Индии, бастуют английские углекопы.
Мир бурлит в преддверии мировой революции. И России бы сейчас — самое время! — вовсю засучить рукава, кабы не антоновщина.
Или вот еще заметка: “Съезд русских черносотенцев и монархистов состоялся в Баварии, так как Пруссия признала невозможным допустить его в своих пределах”. “Что ж это за народ такой в Баварии? — размышлял Сибирцев. — Глухой, слепой? Пиво, сосиски — сытый бюргер? Неужели страшная прошедшая война его ничему так и не научила? Обыватель там, вот кто. И наш, российский, он тоже, вишь ты, пробрался на газетную полосу”. Эти две небольшие заметки как ножом полоснули Сибирцева.