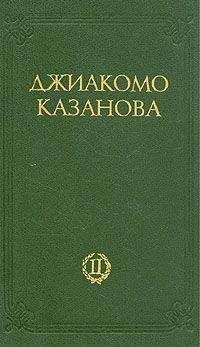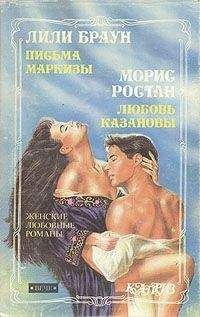— Можете удостовериться, сударь, что за ваше отсутствие ничего не пропало, и если бы не ваш мерзавец-слуга, вам не пришлось бы жаловаться на чиновников Его Католического Величества, как на бандитов и воров.
— Господин алькад, гнев вынуждает меня совершать глупости. Забудем случившееся, ведь если бы мой голос не был услышан, я мог бы попасть на галеры.
Засим я отправился к Менгсу, который никак не ожидал увидеть меня и был явственно смущён. Впрочем, разве мог он считать своё поведение безупречным? Ведь именно он выставил меня за дверь как подозрительную личность. Его слова о том, что он собирался предпринять некоторые демарши в мою пользу перед министром юстиции, я мог считать своего рода косвенным извинением. В доме Менгса меня ждало письмо, доставившее мне больше удовольствия, чем все его заверения. Оно было от Дандоло и содержало в себе ещё одно, адресованное синьору Мочениго.
Добрейший Дандоло уведомлял меня, что по получении сего послания синьор Мочениго может не опасаться гнева инквизиции из-за отношений со мною. Менгс советовал сразу же отнести письмо посланнику, но мне невыносимо хотелось спать, и я отослал его Мануччи, который на следующий день явился с формальным приглашением самого посла быть у него к обеду. Тем не менее, я не мог избавиться от всех своих страхов и, вполне вероятно, покинул бы Мадрид и даже Испанию, если бы не данная мне первым министром аудиенция, полностью рассеявшая все мои сомнения.
Меня довольно долго продержали в приёмной графа Аранды, из чего я заключил, что Его Превосходительство не ожидал моего визита. Когда я, наконец, вошёл, граф сразу же приблизился ко мне и подал связку бумаг.
— Вот ваши письма. Рекомендую перечитать их теперь, когда ваша голова остыла.
— С какой целью, монсеньор?
— С какой целью? Разве вы забыли, в каких выражениях они составлены?
— Простите, монсеньор, но всякий человек, решившийся выйти из такого положения, как моё, даже ценой собственной жизни, не задумывался бы над выбором слов. Я был вынужден считать, что всё произошло согласно приказу Вашего Превосходительства.
— Совсем напротив. По-видимому, вы плохо понимаете своё и моё положение.
— Я вполне отдаю должное вам уважение в обычных обстоятельствах. Но я видел, что оказался вне закона, и поэтому моё поведение заслуживает снисхождения.
— Возможно, но отнюдь не оправдывает то мнение, которое вам было угодно составить по поводу моих намерений касательно вас. Вы несправедливы и не подтверждаете свою репутацию умного человека.
Я поклонился как бы в знак благодарности за его иронический комплимент. Он же продолжал несколько смягчённым тоном:
— Господин Казанова, вы вполне уверены, что ни в чём не можете упрекнуть себя и никоим образом не нарушили, как утверждаете, законы, установленные правительством его Католического Величества?
То, как граф произнёс эти последние слова, заставило меня вздрогнуть. Воспоминание о трагическом приключении встало передо мной во всех своих кровавых подробностях. Граф заметил моё замешательство и добродушно продолжал:
— Успокойтесь, хотя нам всё известно, вы прощены, поскольку поступили как достойный и отважный человек. Однако же, согласитесь, у нас достаточно оснований, чтобы отправить вас на виселицу. Вы поступили как испанец, а сеньора Долорес — как римлянка.
— Что она сделала?
— Она уже во всём призналась.
— Рискуя погубить меня?
— Это была единственная возможность спасти вас. Кавалер, заколотый сеньорой, был дурным человеком, но всё-таки подобное преступление заслуживало наказания, которого не удалось бы избежать во всей его жестокости, если бы дело стало известно публике. Однако тайна и в ещё большей степени причины, побудившие Долорес, дали место милосердию. Она свободна и вместе со своим семейством покинула землю Испании. А вы можете оставаться совершенно спокойным. Полагаю, вам нет надобности напоминать, что это составляет государственную тайну, поскольку вы более всех других заинтересованы в этом.
В сию минуту у меня было желание броситься перед графом на колени, и по моему волнению он мог судить о моей к нему признательности. Выйдя от министра, я отправился к г-ну де Рохасу и, будучи под впечатлением только что случившейся сцены, не стал скрывать от него переполнявшие меня чувства к Его Превосходительству. Г-н де Рохас, не подозревавший об истинной причине этого, с резкостью возразил:
— Как! После всех сих бесчинств вы ещё и благодарите их!
— Но правда восторжествовала, и у меня нет зла. Да и какое я мог бы требовать удовлетворение?
— Во-первых, отставки алькада, и потом круглую сумму как возмещение несправедливости.
— Алькад, несомненно, превысил свою власть, но он сделал это по ошибке, а не вследствие злого умысла. Что касается возмещения, то мне было бы стыдно оценивать деньгами перенесённые мною страдания.
За несколько дней до святой недели король покинул Мадрид и переехал со всем своим двором в Аранхуэс. Синьор Мочениго сделал мне любезность и пригласил в свою свиту, собираясь представить меня Его Величеству. Однако же накануне отъезда я был поражён жестокой горячкой и слёг в постель. К святой пятнице мне стало лучше и, несмотря на сильную слабость, я нанял карету и отправился в Аранхуэс. По прибытии туда я чувствовал себя скорее мёртвым, нежели живым.
Среди особ, коих я усердно посещал в Аранхуэсе, не могу не упомянуть дона Доминго Варнери, первого королевского камердинера. Из его окон можно было наблюдать, как король каждое утро отъезжает на охоту и возвращается с оной, обессиленный усталостью. Король имел небольшой рост, но отличался подвижностью и выносливостью, в противоположность другим испанским монархам, которых в большинстве случаев принято считать раздражительными и немощными.
Карл III приблизил к себе некого Грегорио Сквилласе, человека низкого происхождения. Все достоинства сего фаворита заключались в замечательной красоте его жены. Как и все остальные, я считал сеньору Сквилласе источником милостей, коими король осыпал её супруга. Однако Барнери в следующих словах рассеял моё заблуждение:
— Подобные слухи действительно распространялись, но это чистейшие измышления. Король — само целомудрие и не знал ни единой женщины, кроме своей супруги, нашей покойной королевы, да и то он исполнял свои обязанности скорее по долгу христианина, нежели из супружеского влечения. Сей добрый государь не желает даже под угрозой жизни пятнать себя никаким смертным грехом, и можете вообразить, по какой причине? Единственно, чтобы не исповедоваться в нём своему духовнику. Имея крепкий организм и не испытав за свою жизнь никакого нездоровья, государь обладает таким горячим нравом, что при жизни королевы не проходило ни одной ночи без того, чтобы он не оказывал ей знаков своего нежного расположения. А удовольствиям или, вернее, тяготам охоты король предаётся лишь в надежде дать иное направление своим плотским страстям и отыскать действенное средство противу порывов слишком горячей крови.