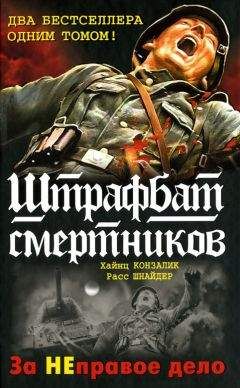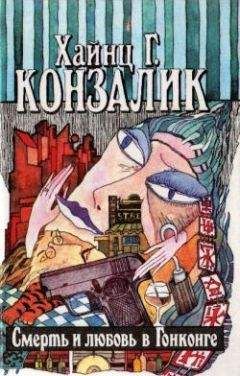— Как? Ты ее знаешь… знал?
Дойчман кивнул.
— Так это…
— Да, это она.
— Брат! — только и произнес Шванеке. — Что тут… что тут скажешь…
Поднявшись, Дойчман продолжал стоять как изваяние. Потом медленно отошел и по складам прочел нацарапанные по–русски слова на прибитой ржавым гвоздем к спине девушки чуть пониже дыр от пуль бумажке: «НЕМЕЦКАЯ СУКА».
— Ах, свиньи, твари паршивые! — ошеломленно пробормотал Шванеке. — А что тут написано? Ты понимаешь по–русски?
Он вопросительно посмотрел на Дойчмана.
— Эй, доктор, что за дела?
Дойчман взял себя в руки. Тело его словно онемело, члены налились свинцом. Стоило пошевельнуться, как их пронзала острая боль… Но… нет, нельзя… Он не имел права раскисать сейчас… не мог… не должен был…
— Пошли, — сказал он таким тоном, что даже у видавшего виды Шванеке похолодела спина. — Идем!
И Карл Шванеке понял, что от него хотят, и, прислонив автомат к деревянной стене, повиновался Дойчману. Они взяли девушку и осторожно отнесли ее в хату. Смерть наступила, по–видимому, недавно, во всяком случае, признаков трупного окоченения пока не было.
— Не могу на это смотреть… Не могу… — сдавленно бормотал Шванеке. — Вот же скоты! Скоты окаянные!
Они похоронили Таню прямо в хате, вырыв могилу в земляном полу единственной случайно обнаруженной заржавевшей лопатой. Копать пришлось по очереди, и только часа три спустя могила была готова. За все это время они и словом не обменялись.
Берлин
Снова началась воздушная тревога, и больных пришлось срочно переносить в подвал, служивший бомбоубежищем. Доктор Кукиль постоянно оставался у носилок Юлии, склонившись над ней, он изучающе смотрел ей в лицо.
— Вы передали ему? — не открывая глаз, прошептала Юлия.
— Пока нет, — ответил доктор Кукиль. — Я попытался дозвониться до них, но связи не было. Это очень далеко…
Раздался чей–то стон. Подвал убежища был переполнен, в воздухе стоял запах лекарств, дезинфекции, гноя. Между временных коек сновали медсестры, прижавшись к стене, рядком сидели ходячие больные. Время от времени, когда бомбы падали где–то неподалеку, стены подвала сотрясались. Люди сидели, уставившись перед собой, некоторые шептали слова молитвы.
— Вы еще раз попытаетесь? — спросила Юлия, открывая глаза.
— Попытаюсь, — ответил Кукиль. — Вам не следует много говорить. Попытайтесь заснуть.
— Мне сейчас гораздо лучше, — ответила Юлия, посмотрев ему прямо в глаза. — Намного лучше. Он ведь уже скоро вернется, герр Кукиль?
— Скоро, — ответил доктор Кукиль. — Уже скоро.
Они сидели в хате, стоявшей ближе всех к лесу. Костра не разводили из опасений, что неприятель может заметить огонь. Было холодно, но все равно не так, как снаружи. Или им это просто казалось? Шванеке, положив автомат на колени, любовно полировал его куском тряпки, хотя в темноте трудно было разглядеть даже собственную руку. Время от времени он поглядывал на сидевшего в стороне Дойчмана.
— Надо бы вздремнуть хоть немного, — сказал Шванеке. — Сколько это мы уже глаз не смыкали?
— Да вот уже вторую ночь, — ответил Дойчман.
Голос его звучал отрешенно, но бодро.
— А тебе не хочется поспать?
— Нет, не хочется. А ты поспи, я могу и посидеть. Все равно не засну.
И когда Шванеке тут же смежил веки, проваливаясь в благодатное небытие сна, Дойчман как бы про себя произнес:
— Дальше тебе одному придется идти. А я возвращаюсь.
Шванеке так и подскочил:
— Что ты городишь?
— Повторяю: я возвращаюсь.
— Это из–за…
— В том числе из–за этого.
— Понимаю, — покорно ответил Шванеке. — Понимаю тебя, приятель.
— А ты спи, спи.
— Да–да, уже сплю. Но я тебя доведу, дружище.
— Куда?
— Ах, какие гады! — пробормотал Шванеке. — Нет, я тебя доведу до места, откуда ты уже сам сможешь добраться.
— Незачем.
— Да ты и шага здесь не сделаешь! — буркнул Шванеке, уже засыпая. — И… до опушки не доберешься. Провожу тебя, а ты: рот на замок! Слышишь? Никому ни слова!
И заснул.
Всю ночь и весь следующий день они просидели в этой хате. После полудня немного поспал и Дойчман, сон был тяжелый и не освежил его. В самой большой хате они случайно нашли мешок семечек Шванеке, устроившись с автоматом у окна, осуществлял дозор, лузгая семечки и сплевывая шелуху прямо на пол. Иногда он поглядывал на Дойчмана, который, словно покойник, лежал на полу, укрытый мешками. Шванеке поднялся, подошел к Дойчману и с неуклюжей заботливостью натянул один из мешков повыше, до самого подбородка Дойчмана.
— Бедняга, — бормотал он, — несчастный ты человек, профессор, какой же ты несчастный…
Когда начало темнеть, они отправились в путь.
Передовые позиции русских были заняты неплотно. Было очень холодно, и они заметили лишь несколько редких постов боевого охранения. Опасаться было некого — в такой холод немцы не полезут. Только русские могут атаковать в лютый мороз. Да и когда немцы вообще в последний раз атаковали по собственной инициативе? Да, если русские наносили удар, они его отражали, но атаковать? Маловато было у них силенок для атак и наступлений. Очень даже мало! Куда же подевались их несметные армии первых лет войны, когда они перли и перли на восток?
Нынче германец был безмерно счастлив, если его просто не трогали…
Прижавшись друг к другу, Дойчман и Шванеке лежали в воронке.
— Вон там, видишь танк? — спросил Шванеке.
— Вижу. Ты имеешь в виду подбитый танк?
— Его. Так вот, этот подбитый танк, считай, уже на ничейной земле. Вот туда я тебя и проведу. А там уже сам будешь добираться.
— Понятно.
— Ну, давай, вперед. Ползком, ползком, задницу не поднимать — ясно?
— Ясно, ясно.
И оба, как пресмыкающиеся, бесшумно стали ползти мимо траншей противника, к темневшему вдалеке силуэту подбитого русского «Т–34».
Снег здесь был утоптан сотнями ног, мороз такой, что и дохнуть было больно, и все же Дойчман исходил потом — пот заливал глаза, тут же замерзая. Вот и траншеи русских.
Они отыскали место, где стенки траншей были продавлены гусеницами танков, и там буквально сантиметр за сантиметром перебрались на другую сторону. Метрах в двадцати в стороне они заметили темный округлой формы предмет — голову русского из боевого охранения. Время от времени на ее фоне вспыхивала красная точечка. Курит, засранец, подумал Шванеке. Курит, стоя ночью в боевом охранении! Ах ты сукин сын, подобраться бы сейчас к тебе, и… ты бы даже не понял ничего…
Позади, тяжело дыша, шаркал телом по снегу Дойчман. Казалось, звук этот слышен за километр. Но русский постовой хоть бы хны — стоит себе и коптит махрой. Вскоре он вообще исчез за бруствером, а они ползли и ползли, медленно, сантиметр за сантиметром, спешить некуда, размышлял Шванеке, мне ведь еще возвращаться, ну ничего, это недалеко…