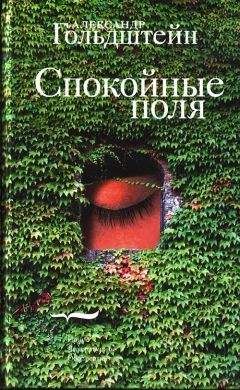В надежде избавиться от ищеек, он сказал репортерам, что расстается с делами, даже обет молчания принимает, и действительно, выскользнул на четыре полных года, в течение коих Шила Сильверман верховодила сектой, армией, городом и восстановила против себя весь ненавидимый ею штат Орегон. То были звездный вихрь, радость, власть, то была ее «вещь», как сказали бы калифорнийские хиппи 1960-х, окрестившие этим кратким словечком состояния глубоко личной сосредоточенной одержимости. Орегон будет Раджнипурамом, кричала она, угрожая залить его искупительной кровью, намереваясь устроить в этом фермерском, тугодумном, тягуче гундосящем заповеднике прощальную бойню для людей и скотов, после чего изъяла из кассы круглую сумму и метнулась ко второму супругу в Европу, а там ее мягко выловил Интерпол. Взятая за жабры, Шила поделилась россыпью свежих подробностей, вынудивших молчальника Ошо сломать печать на устах — он обвинил изменщицу в поругании веры, учреждении коммуны насилия и покушениях на его, просветленного, жизнь, оросившую благодатью сонмы скорбящих, труждающихся, обремененных; подруга опровергала пророка на глянцевых европейских страницах, сардонически припоминая детали.
Грязевые потоки мемуарных свидетельств уже слагались в прелестный роман, зачаровывающий, как переписка двух ядовитых растений, но были прерваны вторжением в Раджнипурам бригады спецагентов, посланцев западных неправедных судов. Список преступлений, прибитый эмиссарами вражды к вратам его палат, отличался эпической полнотой, любого из этих грехов достало б для пожизненного осуждения не только мелкой сошки. Упрямец сопротивлялся, чередуя бешенство отпора с публичным покаянием — бросал в костер свои опусы, колотил себя в грудь, распускал провинившийся ашрам, чтобы собрать его на дотоле неизведанных в религиозной практике началах (расплывчатый, для отвода глаз набросанный эскиз коммунхоза не претендовал быть жизнестроительным базисом еще одного распутного фаланстера, но следствие, чего и добивался Ошо, напугалось изрядно). Осенью 1985 года его взяли с остатками секты в американском провинциальном аэропорту, накануне вылета черт-те куда, версии разнились. Однако тот, кто рассчитывал запросто повязать Бхагавана Шри Раджниша, не на такого напал. Втридорога купленные адвокаты отстояли Ошо, дело свелось к чепухе — условному сроку и смехотворному, по доходам его, штрафу, а также к изгнанию из соединенных карающих штатов, смертельно ему опротивевших, и он налегке, с не отлеплявшейся от него ни при каких изворотах судьбы группой адептов махнул на Крит, в деревню Агион-Николаос, по иному поводу воспетую в русских стихах. Через считанное количество дней поднабрался, подъехал народец, внешне все было как раньше, в благословенный период безумств: церемонии, проповеди, оргастические обряды — и все надломилось, зачахло, высохло вдохновение, спекся кураж, а сам распорядитель торжеств разительно походил на трагически посерьезневшего Чичикова из Второго, не меньше, чем Первый, великого тома, когда после острога не радовал Павла Ивановича даже фрак чудесного пламени с искрой. Крит оказался предпоследней станцией Ошо, уже никто не хотел его привечать. Еще поблуждав по свету, Раджниш вернулся туда, откуда начал маршрут, в Индию своего увядшего духа и окончил повесть в дремотной Пуне, на стылых углях обители. Десять лет прошло, время почтить.
Ну вот, нашел крайнего, Ошо не самый дурной человек, были и хуже, укоризненно покачал головою приятель, углядев на редакционном экране строки добиваемого мной материала. Я и не спорю. Раджниш, если допустимы сравнения, для меня, например, предпочтительней застыло надменных, имперских деспотических чудовищ Хаббарда с Муном: настоящий художник, он не стеснялся веселия, клоунады, ярмарки и базара, раскрепощенных гиньолей и оперы-буфф (искусство всюду, где ощутимо усилие стиля), а пронзительно-грустный финал возвращает его в человечество, от которого он был так ужасно далек во всем, что касалось воли, желания, дарований и в котором так непоправимо нуждался для осуществления этих качеств. Порождение не столько традиционных основ индийской цивилизации, сколько современного Третьего мира, успешно торгующего, помимо бросовой рабочей силы, назидательными историями о путях спасения, китчевой мудростью, популистским спиритуализмом и роевыми способами жизни, Ошо гениально сбыл этот товар сверхразвитым институтам западного потребительства. Раджниш растворился в них наподобие царской жемчужины в кубке вина, став одной из эмблем именно западного универсума последней четверти XX века. Язык нравственных притчей, избранный им для доходчивости, был языком символических обменов постмодернизма, он усвоил его с тем же естественным, творческим, созидающим новые формы иностранным акцентом, с каким африканец Апулей воспринял латынь, обогатив ее своей жовиальною пышностью, а провинциальный еврей Роман из Бериты-Бейрута — гимнографию Восточного Рима, в коем прозвали его Сладкопевцем.
«Отсчитайте десять лет от кончины, и тогда я приду», — обещал Ошо сподвижникам. Если так, значит, ждать осталось немного.
17. 02. 2000ДЛИННАЯ АНФИЛАДА ФАНТАЗИЙ И СТРАХА
Беседа с Ильей Кабаковым
— Хотелось бы начать разговор с так называемого «кризиса репрезентации», исчерпанности выставочного принципа. Причем я имею в виду не только собственно изобразительное искусство, но и театр, кино, вообще все, что связано с демонстрацией, показом чего-либо неподвижному, невовлеченному зрителю. Тому, кто так или иначе внедрен в реальность, в ней действует и ощущает ее давление на себе, трудно воспринимать искусство как нечто огороженное и укрытое в резервации, отделенное от зрителя рампой или невидимой, охраняемой законом преградой. Такому человеку мало отстраненного эстетического созерцания, ему необходимо участие в художественном происшествии, необходим опыт пересоздания своего существа. «Улица» сегодня опять кажется интересней искусства, любой формы дистанцированного показа именно потому, что она по-прежнему делает из зрителя соучастника…
— Речь, вероятно, идет о зрителе, который понятия не имеет о том, что ему ненароком предстоит увидеть, и потому не знает, каким боком к этому объекту повернуться, как подойти к нему. Так что если сама вещь не спровоцирует некую экстремальную ситуацию, то внимание этого человека не будет задето и он попросту пройдет дальше. Предполагается, что человек этот совершенно случайно заглянул в места культурных отправлений: шел на базар, заметил, что дверь открыта, ну, и решил заскочить. Осмотрелся, убедился, что ему тут все непонятно и неинтересно, после чего снова отправился на базар. Такого зрителя не существует, поскольку в художественные институции — а искусство функционирует только в художественных институциях — заходят лишь те, кто отлично знает, чего именно им следует ожидать. Поэтому сам акт открывания дверей в институцию означает, что человек на время отказался от своих житейских потребностей, от сидения в кафе например, и пришел сюда с полным пониманием, совсем не случайно, внутренне согласившись с предложенными ему правилами. В этом смысле ситуация ничем не отличается от прихода на стадион или в цирк. Купив билет в цирк, человек не думает, а чего это я, дурак, сюда попал, даже деньги заплатил, пойду-ка я дальше — такое незаинтересованное, бродячее существо в художественных институциях неизвестно. Но известны особые жанры визуального искусства, в которых художники работают с неподготовленным, сырым зрителем вне рамок художественных институций. В частности, жанр свободных акций принципиально заключается в том, что работа происходит вне институций, вдалеке от них и с неготовым к этим провокационным действиям зрителем, не подозревающим о том, что перед ним художественная акция. Это отдельный, специальный жанр с уже длинной традицией и бородой. Все же остальные виды художественной деятельности, на мой взгляд, полностью оторваны от действительности. Открывая дверь и входя внутрь, человек отрешается от житейских соображений, если, конечно, он не остается в положении того соглядатая, который, смотря на балерину, думает, а сколько ж она, блядь, денег получает и кого, интересно, обжулил художник, чтобы повесить сюда свою картину. Но такой зритель должен быть вычеркнут из обсуждения.
— Однако я говорил о зрителе, который прекрасно понимает, чего ему ждать в культурной институции и который с какого-то момента перестает принимать правила игры, лежащие в основаниях этих резерваций. Он только и жил искусством, но искусство становится для него непитательным в сущностном смысле. И дело не в качестве того, что выставлено, — хорошо оно или плохо, а в самом принципе выставочного показа, когда зритель больше не может быть всего лишь наблюдающим субъектом и нуждается в иных, действенных формах участия в том, что ему предлагают для рассмотрения.