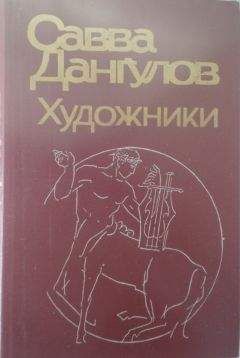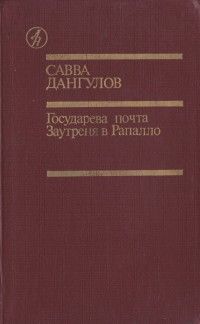Мы простились с Цао Цзинхуа. Я взял своего Пушкина, обернул его в бумагу и, распахнув плащ, спрятал... Всю дорогу до гостиницы я чувствовал самой загрудиной своей твердый гипс скульптуры...
Прибыв в Пекин, я попросил моих китайских хозяев помочь мне встретиться с писателями, имена которых были известны мне. В числе тех первых, которых я назвал, был Ай Цин. Незадолго до поездки я прочел однотомник, — быть может, понятие «однотомник» слишком весомо для книги стихов Ай Цина в переводах Л. Б. Черкасского. Как мне показалось, стихи Ай Цина произвели на меня тем более сильное впечатление, что в них китайская национальная поэтическая традиция соотнеслась с традицией западной, явив нечто такое, что преломилось и самобытно и современно.
Так или иначе, а прибыв в Пекин, я назвал имя Ай Цина и был несказанно обрадован, получив приглашение посетить поэта дома. Верно ли отложился портрет Ай Цина в моем сознании — тридцать лет, минувшие с тех пор, это — тридцать лет. Помню, что я увидел рослого, юношески подтянутого человека, открытого, может быть даже улыбчивого, встреча с которым была у меня один на один. Если память мне не изменяет, Ай Цин довольно хорошо изъяснялся по-французски — он учился живописи в Париже. Быть может, обнаружив, что я дал возможность припомнить ему язык далекой парижской поры своей жизни, он добыл в беседе дополнительные краски. Завершив встречу, Ай Цин вызвался проводить меня, и мы смятенными пекинскими сумерками прошли несколько кварталов вдвоем.
У меня осталось впечатление от этой встречи как об очень открытой, искренней, откровенно дружеской — уже теперь, исследуя даты последующей жизни Ай Цина и, естественно, обратив внимание на то, что, как сказано у Л. Черкасского, «в 1957 году поэт внезапно умолк, как птица, подстреленная на лету», я ловлю себя на мысли: ведь это произошло в том самом 1957 году, когда я был у Ай Цина, — можно только удивляться храбрости поэта, который, предчувствуя грозящую ему опасность (не мог не предчувствовать!), решился принять, и столь сердечно принять, советского литератора!
Но я, кажется, забежал вперед.
Великое оружие Ай Цина — его искренность. Его лирика так действенна потому, что в ее первосути искренность. Читатель бы остался равнодушен к стихам Ай Цина, если бы эти стихи лишить искренности, которая смыкает сердца, сообщает им токи чувства, несет огонь, способный сжечь равнодушие... Бесценное достоинство стихов Ай Цина — их способность сомкнуть эти два начала — мысль и чувство, которыми живет истинная поэзия.
У Ай Цина это была не просто мысль, несущая нестандартное начало, мысль, в которой глянуло откровение нашего века, мысль первородная и обновляющая. Мысль Ай Цина несла большее: в ней был идеал ратоборца нового мира.
Ну, разумеется, в китайскую литературу пришел великий поэт-гражданин, скажу больше, революционный поэт, может быть бард революции.
Своеобразным поэтическим и гражданским манифестом Ай Цина явилось его представление о том, как он видит современную поэзию и место поэта в пей.
«Поэзия — полпред свободы. Голос поэзии — голос свободы. Смех поэзии — смех свободы. Отдай поэзию народу. Пусть она станет духовным оружием народа... Поэзия не только учит народ чувствовать, но еще больше учит его думать. (Вот где два великих начала, на которые опирается поэзия: чувство и мысль!) Поэзия — не только мудрый друг в жизни, но и преданный товарищ в борьбе!.. Поэты, вставайте! Отдадим нашу жизнь мужественной борьбе с мерзостью и тьмой, с наглостью и жестокостью, зверством и безумием!..»
Надо же, чтобы айциновское, одновременно набатное и вещее «Поэты, вставайте! Отдадим нашу жизнь мужественной борьбе с мерзостью и тьмой, с наглостью и жестокостью, зверством и безумием!..» предрекло то, что поэт испытал в течение двадцати одного года (двадцати одного!), став в своей собственной стране гонимым: «Иногда мне кажется, что я прошел сквозь длинный черный сырой тоннель, сам даже не знаю, как можно жить после этого...»
И еще: «В 1967 году, уже во время «великой культурной революции», — вспоминает Ай Цин, — в моем доме был учинен погром, много рукописей было конфисковано». Проникнув в смысл этих строк, и поймал себя на мысли, от которой мороз продрал кожу: «Да не в этом ли доме я был в феврале пятьдесят седьмого года? Если в этом доме, то мог ли подумать, что такое возможно? Да что я? Ай Цин мог подумать, что начало всему этому положит все тот же пятьдесят седьмой?» И вновь пришла все та же мысль: именно в феврале пятьдесят седьмого я увидел его, полного, как мне казалось, сил физических и творческих, во власти всемогущего воображения, без которого нет поэта, окрыленного тем всесильным, что делает художника счастливым... Как же надо верить в неодолимость идеала, который ты исповедуешь, чтобы, глядя на тучу, вставшую над твоей головой, видеть солнце?
Быть может, время размыло детали этой встречи, но помню, что мы сидели за столиком, покрытым необыкновенным китайским лаком, который не оставляет белесых пятен, если столовины коснуться горячим железом или залить крутым кипятком, и я думал о творческом пути поэта, его постепенном и верном восхождении, его становлении.
Мне показалось, что Ай Цин принадлежал к той группе китайских художников, которая старалась не ограничивать всего, что она делала, пределами китайского мира. Подобно Лао Шэ, чьи романы, композицией и стилистическими особенностями, были не чужды европейской традиции, подобно живописцу Сюй Бэйхуну, полотна которого, панорамные и многоплановые, были написаны не без влияния Запада, Ай Цин был обращен своим творчеством не только к китайским первоистокам — это главное, но и к Уолту Уитмену, Эмилю Верхарну, Гийому Аполлинеру, Владимиру Маяковскому. Поэзия Ай Цина утверждала поиск, она была откровением для читателя — китайская читающая публика, особенно молодые рабочие и студенты, тянулась к Ай Цину, — в пору, когда я был в Китае, у него, пожалуй, была слава самого популярного поэта.
Ай Цин заимствовал у Верхарна и Уитмена свободный стих — это были и стихи и не стихи, но это было поэтично, это доходило до сердца, поэтические томики Ай Цина переходили из рук в руки, — в стихах не было нарочитости сочинительства, в стихах жила простота народной речи, ее грубая прямота, хотя в словах была неожиданность — Ай Цин слыл великим кудесником слова, из сочетания слов, бытующих в языке, вдруг рождались слова, которых язык не знал. Поэт раздвигал пределы языка — убежден, что многие его слова отслоились в языке, вошли в язык.
Я читал Ай Цина — он у нас широко печатался, не раз я слышал его знаменитый «Разговор с каменным углем» и его неодолимо скорбную и, конечно, символическую «Снег ложится на китайскую землю».
А как это звучит в чтении поэта?
И вот поэт читает — конечно, слова будто размылись, но настроение осталось. Кажется, что философский зачин «Разговора с каменным углем» пробудил самую китайскую древность.
— Ты где живешь?
— В тысячелетних склепах.
Под толщей гор тысячелетних.
— Ты очень стар?
— Прошедшими веками
Со мною не сравнится этот камень.
— Когда ты смолк?
— В тот час явилась взору
Медлительная туша динозавра
И в первый раз, развитье знаменуя.
Корежило кору земную.
— А ты не мертв?
— Живее нет меня!
Но только —
Дайте мне огня![12]
Вот это неожиданное «Но только — дайте мне огня!» сообщает вековой устойчивости каменных пластов движение, а вместе с тем и неукротимость жизни, точно свидетельствуя: все пронизано дыханием жизни, в природе нет мертвого.
И конечно, даже у Ай Цина нет стихотворения, которое бы так точно передавало великую стужу времени, объявшую на десятилетия Китай, поистине ледяное дыхание дней, не пощадивших и поэта.
Снег падает па землю Китая,
Холод сковывает Китай...
Ветер,
Словно измученная старуха.
Вытягивает ледяные пальцы,
Дергает за полу халата
И бормочет без устали
Старые, как мир, слова.
Китайский крестьянин
В кожаной шапке
Лесною дорогой
Тащится в старой телеге,
Снег не пугает его.
— Кто ты?
Послушай:
Я тоже крестьянский потомок —
В глубоких морщинах лица твоего
Я горькую повесть читаю
О жизни на этой равнине.
Но я не счастливее вас.
Я тоже свалился
В реку по имени «Время»,
Волны перекатываются через голову.
Желая меня поглотить, —