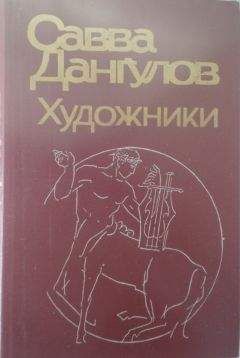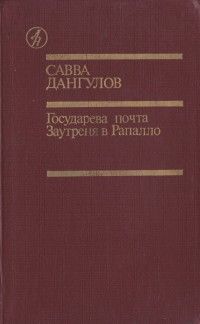И здесь, наверно, уместно вернуться к словам Коцоева о Гизельдоне, который он назвал рекой жизни. В самом деле, почему Гизельдон?.. Чем больше вникаешь в жизнь Коцоева, тем полнее открывается смысл этой формулы. Коцоев родился в Гизели, в большом селении у самых стен Владикавказа, которое омывает Гизельдон, вырвавшись па равнину... С Гизелью у Коцоева связаны не просто годы детства и годы возмужания — самое представление о жизни родного народа складывалось здесь. Да, если собрать всех героев Коцоева и поселить их в большом равнинном селе за Владикавказом, то это село во многом напомнит старую Гизель. И не только потому, что здесь отыщутся прототипы многих гизельцев, сам крестьянский быт старой Гизели будет воссоздан здесь, сам строй обычаев и нравов, язык, на котором говорила старая Гизель и на котором, я так думаю, не говорит Гизель новая. Конечно же Коцоев жил во многих местах осетинского севера и юга, наблюдал и олтенцев, и дигорцев, наблюдал не беспредметно, все впитывая и преображая, как и подобает истинному художнику, но первоядром этих наблюдений была Гизель. Факты биографии Коцоева не отрицают, а подтверждают это. Первые литературные опыты семнадцатилетнего Коцоева, напечатанные в газетах «Терские ведомости» и «Казбек» и подписанные вымышленными именами, подчас опознавались по названию села, которым были помечены: «Сел. Гизель». Наверно, эти опыты могли дать лишь приблизительное представление о том, что явил писатель позже, но в них, в этих опытах, было нечто подобное весеннему солнцу, дающему силу ростку. Именно здесь, в Гизели, Коцоев ощутил то большое, что вызрело в нем с годами и предопределило решение, для него бесценное: посвятить себя литературе, стать писателем. С энтузиазмом и безоглядностью молодости Коцоев начал писать роман. Он принимался за него в тот предутренний час, когда, как свидетельствует народная мудрость, разговаривают только звезды, все остальное молчит, а заканчивал работу едва ли не с зарей вечерней. Видно, роман удался, издательство, которому Коцоев передал рукопись, так и оценило произведение. Но, мотивируя свое решение затруднениями материального характера, издательство отказалось напечатать роман. Рукопись не сохранилась, однако писатель свидетельствовал, что роман был обращен против косных обычаев старины. Можно представить, как пережил молодой автор эту неудачу, но он нашел в себе силы обратиться к новому замыслу и его осуществить. Речь идет о повести «Кто виноват», которую Коцоев написал по-русски. Но повесть постигла та же участь, что и роман. Редакции «Казбека» повесть понравилась, однако газета не напечатала ее. Трудно сказать, как Коцоев объяснил себе неудачу с напечатанием романа и повести и как связал это со своей последующей деятельностью и связал ли, но получилось так, что эта деятельность была проникнута чувством протеста и борьбы. Речь идет о событиях, происшедших в той же Гизели в начале века. В истории освободительной борьбы осетинского крестьянства восстание в Гизели достаточно выразительная страница. Благодарно исследовать участие в этих событиях Коцоева. А все указывает на то, что он в этих событиях участвовал, и активно. Видно, огонь, вызвавший взрыв в Гизели, копился не один год. Если исследовать корреспонденции того же Коцоева в «Терских ведомостях», напечатанных в те два года, можно установить, как развивались события. С настойчивостью и бескомпромиссностью человека, видящего зло и понимающего, кто является его носителем, Коцоев идет на приступ несправедливости. На Гизели свет клином не сошелся, но в ней есть свои сильные мира сего. Это прежде всего старшина и тесный клан его сподвижников и приживальщиков. Против них и обращает свои удары Коцоев. Нет, не только в газетных корреспонденциях, помеченных неизменным «Сел. Гизель», но и в речах, произнесенных на сходках гизельских крестьян. И вот итог — Гизель восстала. У гизельского взрыва было мощное эхо, его услышала Осетия. Восстание было подавлено. Аресты, суды, каторга... Если не хватало улик, чтобы засудить обвиняемого, он высылался из Осетии. Коцоева ждала именно такая судьба. Теперь мир односельчан был тем более дорог писателю, что вход в Гизель, сам доступ к родному пепелищу, отныне для него был закрыт.
Вот где берет начало для Коцоева Гизельдон, вот где он становится рекой жизни!
...Хочу вспомнить Коцоева и вижу его идущим весенним днем по Пролетарскому проспекту в обществе своего друга Сармата Косирати, известного в Осетии литератора и культурного деятеля. На Коцоеве неизменный темно-серый костюм, с жилетом, в кармашке которого, как мне видится, хранятся часы швейцарской фирмы Павел Бурэ, разумеется, в ярко-черном чугунном корпусе. Как свидетельствует всеведающая владикавказская молва, он не может работать без того, чтобы эти часы не были перед ним. Деликатный Косирати испытывает неловкость оттого, что он так неприлично высок и вынуждает почтенного мастера при разговоре запрокидывать голову, при этом острая бородка Коцоева становится как бы перпендикулярно к земле. Но Коцоеву приятно общение с Косирати, и я вижу, как он слушает собеседника и при этом улыбается, касаясь маленькой розоватой ладонью усов. Вот взглянешь на него и подумаешь: как бесконечно мягок человек, именно мягок... Такой пройдет по жизни, снимая добрую жатву, как нынче говорят, «положительных эмоций», никого не задев, никого не обидев, даже из тех, кого следует обидеть... Честное слово, так можно подумать, когда Арсен Коцоев и Сармат Косирати идут добрым весенним днем, идут по Пролетарскому проспекту, и Коцоев улыбается... А ведь Коцоев не такой, больше того — эта его улыбка, уже чуть-чуть покровительственно-стариковская, ничего не объясняет. Даже наоборот, она дает превратное представление о нем. Собственно, эта улыбка есть и в рассказах Коцоева, но рядом с нею гнев... Против кого?
В самом деле, против кого обращен гнев этого человека, чей бесконечный гуманизм много шире понятия «добрый человек»? Гизель, мятежная Гизель дает точный адрес тех, кого ненавидел Коцоев, кого считал своим врагом.
Подобно великому Коста, Арсен Коцоев был революционным демократом. Коста был старше Коцоева на тринадцать лет, и тем не менее Коста был для него не просто единомышленником и собратом по перу, он был для него учителем. Именно учителя слушал Коцоев на педагогическом съезде во Владикавказе в 1899 году. Конечно же Коцоев, как в свое время Хетагуров, испытал на себе влияние всех тех, кто был зачинателем великой русской литературы, — Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, — но если говорить о мировоззрении как о стройной системе взглядов на жизнь и место человека в обществе, то конечно же тут было влияние плеяды революционных демократов, и прежде всего Белинского, Герцена, Чернышевского. Велик был пример Некрасова и Щедрина. В их творчестве, как, впрочем, и в их деятельности, и Хетагуров и Коцоев как бы воочию увидели, что может сделать писатель, исповедующий принципы революционных демократов. Коцоев принимал главный принцип революционных демократов — свержение самодержавия посредством народной революции. Ему была ненавистна либеральная фраза, как, впрочем, и ее носители, для которых эта фраза лишь маскировала верноподданнические чувства. Он верил в революционную силу масс и видел Россию освобожденной от царизма. Сын крестьянина-бедняка, испытавшего все тяготы крестьянской жизни, Коцоев с особым сочувствием относился к антикрепостнической программе революционных демократов и всему, что было рецидивом крепостничества после реформы 1861 года.
Своеобразие Коцоева-художника в том, что его творчество взросло на благодатной почве осетинского фольклора. А это более чем богатая основа. Осетины — один из тех народов, чей вклад в создание знаменитых нартских сказаний особенно велик. Как ни значителен этот эпос, но то, что мы знаем, нам сегодня дает лишь приблизительное представление о его размерах. Сказания о нартах далеко еще не собраны, хотя последнее издание осетинских «Нартов» будет насчитывать одиннадцать томов. Наверно, будущий исследователь творчества Коцоева сумеет установить и прокомментировать обстоятельно, в каких отношениях муза Коцоева находилась с творчеством народа. Многие создания Коцоева фольклорны по жанру: легенда, быль, сказка. Такое впечатление, что первоядром такого произведения является нечто такое, что писатель нашел у народа. Но дело не только в жанре, а часто и в самой сути произведения, интонации сказа. Коцоев сообщил и многим своим рассказам интонацию сказа, а может быть, и добрую лаконичность сказа, а также четкость и естественность сюжетных решений.
Коцоев — большой мастер сюжета, и здесь ему многое дал фольклор. Чем меньше рассказ, тем напряженнее его сюжет. Прочтешь такой рассказ в десять страниц, а впечатление, что прочел большую повесть. Удивительное впечатление — все уместилось в рассказе: и описание природы, и точные зарисовки героев, и мысль, мысль автора, ею дышит рассказ, — а как все лаконично! Будто писатель действует по некоему только ему известному закону, гласящему, что в лаконичности произведения его емкость. Напряжение возрастает от строки к строке и, достигнув кульминации, как бы взрывается, при этом решение, к которому приходит писатель в конце рассказа, и закономерно, и в какой-то мере неожиданно.