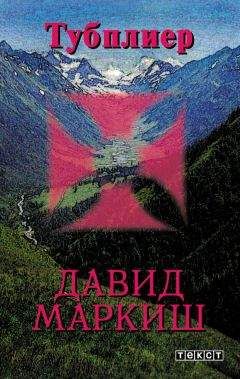– Расскажите! – сочувственно попросила Галя.
Рассказ о живописной несвободе на фоне безлюдной и безводной казахстанской степи и лошадь растрогал бы до слез. То была история о существовании на краю голода, о повальном падеже от болезней – по улице кишлака слонялись без всякого дела прокаженные, беспрепятственно обитавшие почему-то в этом углу света, и безносые сифилитики с лицами, перечеркнутыми поперек узкими черными повязками. А туберкулез здесь считался чем-то обычным – состоянием здоровья, не выходящим из ряда вон. Постоянной работой были надежно обеспечены только кладбищенские могильщики да пятерка музыкантов похоронного оркестрика: кореец-кларнетист, русак-геликонщик, хохол-валторнист, грек-барабанщик да Влад Гордин, управлявшийся с музыкальными тарелками. Полная дружба народов. Через несколько лет ссыльных разгонят из этих краев, построят космодром и начнут пускать ракеты в космос.
– Бедный мальчик! – Поднявшись из-за стола, Галя подошла к Владу и бережно, кончиками пальцев погладила его по голове. Влад наклонил голову и прижал щекой ее ладонь к своему плечу. И руки протянул – тихонько обнять женщину, приблизить ее к себе. Галя не оттолкнула его, она шла к нему, как лодка к причалу.
Бедный мальчик из похоронного оркестра!
Телефонный звонок грянул, словно в волшебной тишине сто проклятых скрипачей все разом обрушили смычки на струны сотни своих проклятых скрипок. Звонила дежурная сестра из корпуса: у кого-то там пошла кровь горлом, врач требовался срочно.
– Подожди меня, – сказала Галя уже от двери. – Я быстро! – Потом вернулась, поспешно поцеловала Влада в глаза и вышла. Тихонько, по-заговорщицки щелкнул язычок дверного замка.
А Влад Гордин, оставшись один, огляделся почти по-хозяйски. Джек Лондон на книжной полке – пухлые томики, читанные не раз. Отрывной календарь на стене, наполовину выдранный: 5 июня, понедельник. Фотография в рамке – женщина средних лет с озабоченным строгим лицом, в шляпе, видимо, мама. Влад пересел на диван, попрыгал – жесткие квадратные подушки упруго пружинили, и это приоткрывало картину, от которой рывком спирало дух. Делать было нечего. Он развернул фантик «Раковой шейки» и сунул в рот сладкий камешек конфеты. На столе, рядом с вазочкой, верхней в стопке лежала папка с надписью: «ГОРДИН В. С. История болезни № 143-А». Влад Гордин взял папку и открыл ее.
Справки, анализы и заключения не вызвали в нем любопытства. Рентгеновский снимок размером в две ладони он без интереса повертел перед глазами и вернул на место. Медицинский язык, как птичий щебет, ничего ему не говорил; да он и сам, ему казалось, знал все, что было необходимо знать о собственной беде. Последним документом в папке была страничка машинописного текста, подписанная каким-то профессором Пименовым, неведомым Владу.
В своем сообщении профессор Пименов уведомлял адресата о том, что больной Гордин Владислав Самойлович направляется в туберкулезный санаторий «Самшитовая роща» для подготовки к операции по поводу резекции верхней доли левого легкого.
Вернувшись домой через полчаса, Галя не застала Влада Гордина – комната была пуста. На столе, на письме Пименова, лежала записка от Влада: «Как же так, как Вы могли мне ничего не сказать! Я не хочу жить инвалидом и никогда, ни за что не соглашусь на операцию».
В корпус, в палату с негром, идти не хотелось. Ни к кому не хотелось идти Владу Гордину – ни обратно к Гале, ни к Семену, ни к ганзейцу Игнатьеву, ни даже к Вале Чижовой. Хорошо бы сесть за столик в чебуречной, заказать коньяку – и чтоб никого не было. Но в «стекляшке» сейчас туристов полно, у них заезд по понедельникам, они песни поют под гитару. Черт! Вот и получается, что, если человеку объявили смертный приговор и он хочет побыть один, ему прямая дорога в красный уголок: там пусто, никого нет.
Но и ночной парк был темен и пуст, как будто людей оттуда старательно вымели метлой. Влад нашел утопленную в зелени кустов лавочку, сел и освобожденно вытянул ноги. «Резекция верхней доли левого легкого» – ясней не скажешь. А он в Москве рукав пальто натягивал на ладонь, чтоб через дверную ручку в диспансере не подхватить заразу. Значит, не приди он тогда в военкомат за билетом на Камчатку, никто бы ему и не сказал ни про туберкулез, ни про вспышку, и не было бы никакой Самшитовой рощи. А что было бы? Место в крематории, вот что. С туберкуломой на воле долго не ходят, это он уже успел выучить в санатории: «Солнце – враг!», «Отдохни, чтобы не устать». Мало ли чего… Граната в левом легком, наверху. Граната взорвется – и конец. А когда? Да хоть завтра или через неделю: на солнышке посидишь денек, позагораешь – все равно что чеку выдернешь собственной рукой. Но и без всякого солнышка тут все, как на ладони: песенка спета. Хоть плачь, хоть не плачь – все, кажется, кончено для Влада Гордина на этом свете. Кто следующий?
И на чудо только последний дурак тут может рассчитывать. Какое еще чудо! Новое легкое, что ли, отрастет вместо старого? Вряд ли. Значит, остается операция – «верхнюю долю» у него отчекрыжат, рука повиснет, как у тех несчастных в бане. И станет Владик инвалидом до конца своих дней… Нет, спасибо, этого не надо. Мало пожил? Ну, тут как посмотреть: люди умирают и в младенчестве и на войне молодые ложатся тысячами и миллионами. В конце концов, жизнь измеряется не только количеством годов. Можно и до ста лет дожить, и до ста двадцати, это иногда случается, а какой кому от этого прок, кроме всеобщего изумления? Хотелось, конечно, до шестидесяти с хвостиком дотянуть, до двухтысячного, перебраться через три юбилейных нуля и поглядеть, как там – в третьем тысячелетии. Не получается… Конечная остановка, поезд дальше не пойдет. Приехали. И не в Москву же возвращаться умирать, домой, к плаксивой эпистолярной Тане. А чем здесь хуже, в горах, если разобраться? Даже лучше: красиво и небо совсем рядом. Надо только решить, срок себе назначить и уйти повыше, на перевал – там солнце палит, ультрафиолет свое дело сделает за один день. И конец. И не мучиться, с плёвкой не ходить в кармане. Решить – и все! И это будет правильно.
Как то ни странно, но вопросы, не имеющие ни малейшего касательства к окружающей полезной жизни, посещают иногда рядовых людей, из которых, как на подбор, составлено население нашей планеты. И пусть даже эти грубошерстные люди состоят в офицерских, как полковник Шумяков, чинах – дело ничуть не меняется. Бесполезные вопросы, как крылатые цветочные семена, дуновением ветра заносит ненароком на каменистую почву среднестатистической человеческой души – и они проклевываются там красивой зеленой стрелкой, причиняя своему созидателю либо болезненное беспокойство, либо, напротив, мечтательное успокоение.
Поезд все глубже втягивался в ущелья Кавказских гор, равнинная Россия осталась далеко за горизонтом, а полковник Шумяков, глядя через окно своего купе на утесы да обрывы, все никак не мог очистить память от того разговора, что вел подозрительный писатель в пивном баре «Яма» накануне отъезда. И вовсе не Бог, на существовании которого настаивал лауреат, досаждал Шумякову – с Богом полковник разобрался раз и навсегда, а вот это, как бы вскользь оброненное: «Стрелки ко времени подходят как к корове седло, потому что времени вообще – нет! Не существует! Это нам только кажется!»
Как же «нет», когда вообще-то есть! – думал и гадал полковник Шумяков, приближаясь к месту своего назначения, районному центру Эпчик. Но и сучий этот писатель, лауреат, кое в чем прав: если, например, спишь, то время быстрей проходит, чем если сидишь на работе. И поэтому нельзя мерить, предположим, стрелками рабочее время и сонное. Или можно еще по-другому посмотреть: в той же пивной, за разговорами, просидели часа три, а кажется, всего минут пять проскочило! Ну, десять…
Полковника Шумякова, задумавшегося над прихотливым ходом времени, в горном Эпчике терпеливо поджидал капитан Андрей Зворыкин. В коридоре райотдела КГБ, застланном по всей длине ковровой дорожкой, царила дремотная тишина: государственной безопасности в районе ничто не угрожало, офицеры скучали и играли в домино. К абреку Мусе, бегающему с мешком по горам, все уже привыкли, он стал как бы частью пейзажа. Что же до сброса вождя в пропасть, то это дело повисло на Зворыкине, пусть он и беспокоится. Коллегам капитана сброс представлялся незначительным происшествием, не выходящим из ряда вон. Вот если б горцы контрреволюционные листовки стали писать или устроили антисоветское сборище – это другое дело. Но такие страшные преступления и в голову никому не могли прийти. А с подпольной организацией в туберкулезном притоне капитан Зворыкин решил разобраться самолично и, рассчитывая на единоличное же поощрение от начальства, никого из сослуживцев в эту историю не посвящал.
Меж тем оперативные усилия капитана принесли свои плоды, и папка «Дело № 4781-К» заметно располнела и раздалась. История старого Мусы не обросла новыми подробностями, да и откуда бы им взяться: абрек бегал по горам как серый волк, его никто из заслуживающих доверия людей в глаза не видал. За долгие годы странствий он превратился из живого гражданина в летучую легенду, в миф этого края – какие уж тут подробности! Зато в секретную папку стопкой легли истории болезней фигурантов дела о туберкулезном подполье, густо сдобренные донесениями осведомителя Лобова по кличке Хобот, внедренного в самое логово заговорщиков. Кроме того, несомненную следственную ценность представляли собой показания ответственного руководителя санатория «Самшитовая роща» кандидата медицинских наук и члена бюро эпчинского райкома партии Реваза Бубуева. Капитан Зворыкин бывал в гостях у доктора Бубуева в его особнячке не раз и не два и сохранил об этих ночных застольях самые приятные воспоминания.