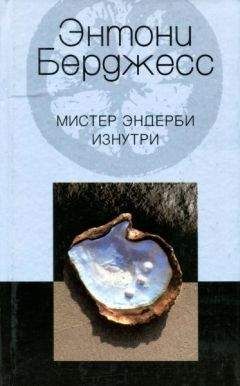Глава третья
– Пришел я главным образом, – бормотал, пошатываясь, Утесли, – преподнести вам… – Покачнувшись, он порылся в карманах, откуда извлек старые и грязные, стертые по сгибу бумажки, две полупустые трубочки желудочных таблеток, пушистых от пыли, судейский свисток, иссохшую погремушку стержня авторучки и, наконец, чистый конверт. – Вот это. Билеты на премьеру. Думаю, мой старый добрый Эндерби, вас это уместно развлечет. У меня нет дальнейшего интереса к означенному фильму, помимо того что я приложил руку к его созданию. И, позвольте вам сказать, Эндерби, это дешевый фильм, фильм, снятый на скромные сбережения, фильм на скорую руку и с реквизитом, позаимствованным – безо всякого разрешения, понимаете – из других фильмов. Стрега, – внезапно обратился он к Данте за стойкой.
Как и в первую их встречу, в баре они сидели одни. Эндерби чувствовал себя старым и потасканным, во рту словно был привкус автомобильной шоколадки в глазури из крушины. Дело было на следующий день после возвращения из папского городка на озере, близился полдень, и Веста ушла повидаться с какой-то княгиней по имени Ирена Галицына, римской дамой, известной своими бутиковыми моделями или дизайном кутюр или еще чем-то в таком роде. Веста быстро спускала деньги.
– И, разумеется, ведь этого мир ждет от Италии, – сказал Утесли, – сколько-то sfacciate donne Fionrentine[54], вот только никакие они не флорентийки, а римлянки, mostrando con le poppe il petto[55]. Там вы, Эндерби, увидите, как бесстыжие мерзавки показывают сиськи до самых сосков. Данте был великим пророком, он предвидел итальянскую киноиндустрию. Данте!
Данте за стойкой поклонился.
– Однофамильцы, – доверительно сообщил он Эндерби, продолжая покачиваться. – То еще гребаное совпаденьице, а? У Данте все найдется, если поискать. Даже название фильма, который вы пойдете смотреть, взято из «Чистилища». Я нашел это название, Эндерби, я, английский поэт. Ведь ни один из этих безбожников-римлян даже взглядом Данте не удостоил с тех пор, как окончил школу, если вообще в школу ходил.
Достав из конверта пригласительные билеты, Эндерби увидел, что фильм называется L’Animal Binato, «Двусущный зверь». Название ничего ему не говорило. Повернувшись к бутылке фраскати на стойке, он налил себе стаканчик.
– Много пьете, Эндерби, понимаю, понимаю, – сказал Утесли. – Если позволите похабную догадку, это потому, что в дело пошли мускулы, которых вы никогда не использовали раньше. Венера мерзнет без Бахуса и Цереры, ну да пошла бы эта богиня завтраков и сериалов. Стреги! – крикнул он, энергично кивая.
– Больше я вас домой не повезу, – сказал Эндерби. – В прошлый раз с вами чертовски много было хлопот, Утесли, и вы выставили меня круглым идиотом. Если собираетесь выключиться тут, то и оставайтесь в отключке, вам ясно? У меня и так забот полон рот…
– Он в рифму говорит! – с наигранным восхищением крикнул Утесли. – Он все еще очень даже поэт! Но сколько еще, а? – сузив глазки, спросил он зловеще. – Муза, о Эндерби. Муза уже заглядывала сказать, что заказала билет в один конец на Парнас или где там еще она обитает? Ее долгий срок службы у Эндерби закончен, и пришло время Эндерби отречься от ее магии, ибо Муза в отличие от Ариэля не воздушный бесполый раб, но женщина, до мозга костей женщина. – Утесли вдруг словно скукожился и сильно постарел. – Возможно, Эндерби, мне было не суждено добиться большого успеха у этой женщины, из-за… ну знаете… то есть… так сказать… сексуальной амбивалентности. – Он вдохнул, всколыхнув литр или около того воздуха римского бара и влил в себя декалитр или около того стреги. – А теперь, понимаете, Эндерби, я снова при делах. Сегодня под вечер, если быть точным. Поэтому вам не придется везти меня ни домой, ни куда-либо еще. Приедут люди из «Бритиш эйрвейз» и заберут меня – отличные ребята. Посадят меня в самолет… Куда я лечу, Эндерби? – Он плутовато осклабился и погрозил пальцем. – Э, об этом молчок. Достаточно будет сказать, что я держу путь на юг. Я свое отхватил. – Подмигнув, он похлопал себя по правому нагрудному карману. – И теперь малыши Марко и Марио, и тот чертов пьемонтец могут, говоря словами Мильтона, пойти сами знают куда. Я с ними, Эндерби, покончил. Покончил, Эндерби! – сказал он громко и для верности ударил кулаками по столу. – Со всеми ними! Со всеми вами то есть. Познай самого себя, как говорится, проснись. Поэт должен быть один.
Эндерби обиженно надулся, доливая себе остатки из бутылки фраскати. Не Утесли указывать, как ему жить. Он достал из кармана листок бумаги, на котором делал подсчеты.
– Вы знаете, сколько стоит норка? У меня тут все записано. – Он очень тщательно выговаривал слова. – Одна норковая шуба «Блэк даймонд» – тысяча четыреста девяносто пять фунтов. Один норковый жакет до бедер – пять тысяч девяносто пять фунтов. Одна серебристая норковая накидка – триста девяносто пять фунтов. Норковую столу можно сбросить со счетов, это же несерьезно – каких-то двести фунтов. Так, каприз, пустяк. – Эндерби глуповато улыбнулся. – Что делать поэту, у которого нет денег, а? Как поэту жить?
– Ну, можно пойти работать, – протянул Утесли, обеими руками обхватив очередную рюмку стреги, словно ее следовало задушить. – Работа самая разная бывает, знаете ли. Только самые удачливые могут быть профессиональными поэтами. Вы могли бы преподавать, или писать для газет, или писать сценарии к фильмам или рекламные слоганы, или читать лекции для Британского совета, или вообще на фабрику пойти. Много чего можно делать…
– А что если предположить, что поэт умеет только стихи писать? – возразил Эндерби. – Что если во всем остальном он выставляет себя дураком?
– Сомневаюсь, что кто-то способен настолько выставить себя дураком, чтобы это имело значение, – логично возразил Утесли. – На вашем месте я все предоставил бы тетушке Весте. Она подыщет вам непыльную работенку.
– Но всего минуту назад вы говорили, что я должен быть один, – запротестовал Эндерби.
– Вижу, – сказал Утесли, заглядывая в свою стрегу. – Ну, в таком случае у нас бардачок-с, да, Эндерби? Но не отвлекайте меня глупыми заботами, у меня и своих полно, знаете ли. Сами разберетесь.
Внезапно он протрезвел и как будто даже замерз, невзирая на июльское тепло. Опрокинув стрегу, он преувеличенно поежился, точно принял полезное, хотя и горькое лекарство.
– Наверное, мне следовало раньше начать спиваться, – сказал он. – Тогда я, возможно, уже был бы мертв и не стал бы отцом, ну, приемным, или помогал бы с незаконным отцовством «Двусущного зверя», здоровехонький и почти невосприимчивый к убийственному воздействию алкоголя. Честь по чести, Эндерби, надо было придумать, как мне с собой покончить, когда я обнаружил, что поэтический дар меня покинул. Хотя бы исхитриться быть невнимательным при переходе улицы, верно? И во время войны податься не в отдел пропаганды, а на фронт добровольцем.
– А каково это? – с патологическим интересом спросил Эндерби. – То есть когда поэтический дар уходит?
Утесли пригвоздил Эндерби взглядом таким злобным, что Эндерби нервно заулыбался.
– Разрази вашу подлую душонку, здесь не над чем смеяться, даже задним числом. – Тут он подался к Эндерби, побаловав его панорамным кадром скверных зубов и еще худшим запахом изо рта. – Это как умереть внутри. Как онеметь. Я совершенно ясно понимал, что следует сказать, но не мог этого сказать. Я ощущал воображаемое сродство между двумя различными предметами, но не мог сказать, в чем оно заключается. Я часами сидел над листом бумаги, часами и часами, Эндерби, а потом наконец что-то из себя выдавливал. Но то, что мне удавалось выдавить, – не смейтесь надо мной! – отдавало тленом. То, что я выдавливал, было зло, и меня передергивало, когда я комкал и бросал бумагу в огонь. По ночам я просыпался от издевательского смеха. А потом… – Утесли зашатался на стуле. – Однажды ночью раздался ужасный щелчок, и все в комнате как будто стало холодным, холодным и непристойным. Я понял, Эндерби, что все кончено. И потому я останусь за границами Сада, никчемный и, что важнее, Эндерби, грешный. Как священник-расстрига. Лишенный сана священник не становится простым безобидным смертным. Он должен стать сосудом чего-то, ибо сверхъестественное чурается сверхпустоты, а потому он становится сосудом греха. – Он глотнул еще стреги и пошатнулся. – И все, что остается поэту, когда ушло вдохновение, Эндерби, – пародия, плагиат, популяризация, фальсификация, проклятие. Он испил млека рая, и оно давно прошло через его организм, Эндерби, но, к великому своему несчастью, он помнит вкус. – Утесли закрыл усталые глаза и произнес неразборчиво: – Ara vos prec. Когда придет время, вспомните мою боль. Я вам переведу, Эндерби, оригинал на старопровансальском, и вы не поймете. Это сказал поэт Арно Даниэль в Чистилище. Везучий был чертяка – или есть, – Эндерби, он везучий чертяка, что попал в Чистилище. В отличие от кое-кого из нас.