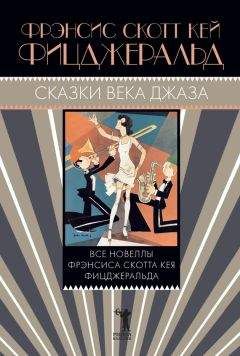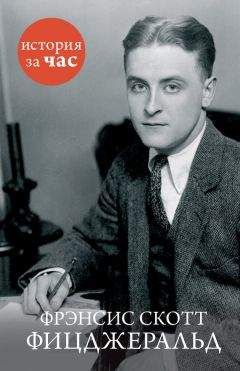– Вот как? – сказал Гораций, и, перепрыгнув на трапецию, выполнил трюк.
– Что, ни шея, ни плечи не болят?
– Поначалу болели, но за неделю я написал об этом quod eras demonstrandum.
– Гм…
Гораций свободно повис на трапеции.
– Не думал заняться этим профессионально? – спросил толстяк.
– Да нет.
– Будешь получать хорошие деньги, если сможешь делать такие трюки так легко.
– А вот еще, – энергично бросил Гораций, и толстяк разинул рот от удивления, наблюдая, как Прометей в розовом трико снова победил богов и сэра Исаака Ньютона.
На следующий вечер Гораций вернулся с работы домой и застал заметно бледную Марсию, лежавшую на диване в ожидании его прихода.
– Сегодня я два раза падала в обморок, – без лишних предисловий начала она.
– Что?
– То. Видишь ли, через четыре месяца у нас появится ребенок. Доктор сказал, что мне надо было прекратить танцевать еще две недели назад.
Гораций сел и задумался.
– Я рад, конечно, – меланхолично сказал он. – Я имею в виду, рад, что у нас будет ребенок. Но нам предстоят серьезные расходы.
– У меня двести пятьдесят долларов в банке, – с надеждой сказала Марсия, – и еще мне на днях заплатят жалованье за эти две недели.
Гораций быстро подсчитал итог.
– Вместе с моим жалованьем у нас получится четырнадцать сотен за ближайшие полгода.
Марсия еще больше побледнела.
– И все? Конечно, можно поискать место певицы на этот месяц. А в марте я снова смогу выйти на работу…
– Да ты что! – резко оборвал ее Гораций. – Ты останешься дома. Так, посмотрим – нам придется платить врачу, и няньке, да еще и горничной. Значит, нужно раздобыть побольше денег.
– Ну что ж, – устало сказала Марсия, – я не знаю, что теперь делать. Все теперь держится только на голове. Плечи выходят из дела.
Гораций поднялся и надел пальто.
– Куда ты собрался?
– Есть одна идея, – ответил он. – Я скоро вернусь.
Через десять минут, на пути к гимнастическому залу Скиппера, он уже спокойно удивлялся сам себе, забыв об иронии. Как бы он смеялся сам над собой еще год назад! Как бы развеселились все без исключения, узнай они об этом! Но, однажды открыв дверь на стук самой жизни, ты всегда позволяешь многому войти вместе с ней.
Зал был ярко освещен, и когда его глаза привыкли к свету, он увидел задумчивого толстяка, усевшегося с большой сигарой на куче тряпичных матов.
– Слушайте, – прямо начал Гораций, – вы серьезно говорили вчера, что я могу зарабатывать деньги своими трюками на трапеции?
– Ну да, – удивленно сказал толстяк.
– Я все обдумал, и я хочу попробовать. Могу выступать по вечерам и по субботам – да в любое время, если деньги действительно хорошие.
Толстяк поглядел на часы.
– Ну что же, – сказал он, – надо повидаться с Чарли Палсоном. Он возьмет тебя сразу, как только увидит, как ты работаешь. Сегодня уже поздно, но завтра я его приглашу.
Толстяк был верен своему слову. Чарли Палсон действительно появился в зале на следующий день и провел час, в изумлении наблюдая, как чудо-гимнаст невероятными параболами проносился в воздухе, а на следующий вечер он привел с собой двух тучных господ, которые выглядели так, будто родились, попыхивая толстыми сигарами и разговаривая о деньгах низкими, страстными голосами. В следующую субботу торс Горация Тарбокса совершил свое первое появление в профессиональном качестве на гимнастическом шоу в «Парке Кольмана». Несмотря на то что число зрителей приближалось к пяти сотням, Гораций нисколько не нервничал. С детства он читал доклады перед публикой и хорошо овладел фокусом сценического отстранения.
– Марсия, – весело говорил Гораций тем же вечером, – я думаю, что мы потихоньку выбираемся из этой чащи. Палсон считает, что сможет устроить мне выход на «Ипподроме», а это означает контракт на всю зиму. «Ипподром», ты же знаешь, довольно большая…
– Да, кажется, я о нем слышала, – перебила Марсия, – но мне бы хотелось узнать побольше об этом твоем трюке. Это ведь не «смертельный номер»? А то они все больше похожи на попытки публичного суицида…
– Ничего особенного, – тихо сказал Гораций. – Но только если ты сможешь придумать более изящный способ уйти из жизни, чем рискнуть ради тебя, то тогда это и будет та самая смерть, которой я себе желаю.
Марсия поднялась и крепко обняла его.
– Поцелуй меня, – прошептала она, – и скажи «любимая». Мне нравится слушать, как ты называешь меня «любимая». И принеси мне завтра какую-нибудь книжку. Что-нибудь легкое и занимательное, не Сэма Пайпа. Я просто не знаю, чем заняться днем. Я хотела писать письма, но мне некому их посылать.
– Пиши мне, – сказал Гораций, – я буду их читать.
– Если бы я умела, – очень тихо сказала Марсия. – Если бы я только знала все слова, я бы написала тебе самое длинное в мире письмо о любви – и никогда бы не устала его писать.
Прошло два месяца. Марсии, естественно, становилось все хуже, и несколько ночей подряд на арену «Ипподрома» выходил очень усталый и нервный атлет. Следующие два дня его место занимал еще более бледный юноша, почти не срывавший аплодисментов. Но по прошествии двух дней снова появился Гораций, и те, что сидели в первых рядах, могли заметить выражение блаженного счастья на лице юного акробата даже в тот момент, когда он беззвучно проносился в воздухе в самом апогее своего изумительного и уникального разворота плечами. После этого выступления он смеялся в лифте и, поднимаясь по лестнице в квартиру, перескакивал сразу через пять ступенек – а затем осторожно, на цыпочках, вошел в тихую комнату.
– Марсия, – прошептал он.
– Привет, – слабо улыбнулась она ему. – Гораций, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Загляни в верхний ящик моего комода, ты увидишь там большую кипу бумаги. Это книга – что-то вроде книги – Гораций, я написала ее за эти три месяца, пока лежала в постели. Я хочу, чтобы ты передал ее Питеру Бойсу Уэнделу, который напечатал мое письмо в газете. Он сможет сказать, хорошая ли это книга. Я писала ее так, как думалось, так же, как я писала то письмо. Это история обо всем, что со мной случилось. Ты передашь ее ему, Гораций?
– Да, дорогая.
Он наклонился над постелью, положил свою голову рядом на подушку и начал гладить ее светлые волосы.
– Милая моя, – мягко сказал он.
– Нет, – пробормотала она, – зови меня так, как я тебе говорила.
– Любимая, – страстно прошептал он, – любимая, любимая…
– Как мы ее назовем?
Гораций задумался. Они оба замолчали, счастливые и немного усталые.
– Мы назовем ее Марсия Хьюм Тарбокс, – наконец сказал он.
– Почему Хьюм?
– Потому что это он нас познакомил.
– Неужели? – пробормотала она, полусонная-полуудивленная. – Я думала, его звали Чарли.
Ее веки сомкнулись, и спустя мгновение медленное, размеренное колыхание одеяла на ее груди наглядно продемонстрировало, что она крепко заснула.
Гораций на цыпочках подошел к комоду и, открыв верхний ящик, нашел кипу исписанных небрежным почерком страниц. Он взглянул на титульный лист:
Марсия Тарбокс
Сандра Пипс,
или
Синкопированная
Он улыбнулся. Значит, Сэмюэл Пипс все-таки произвел на нее впечатление. Он перевернул страницу и начал читать. Улыбнувшись еще шире, он продолжил.
Прошло полчаса, и он внезапно осознал, что Марсия проснулась и смотрит на него с постели.
– Милый, – послышался шепот.
– Да, Марсия?
– Тебе понравилось?
Гораций кашлянул.
– Кажется, я зачитался. Просто отлично!
– Дай ее Питеру Бойсу Уэнделу. Скажи ему, что у тебя были высшие баллы в Принстоне и что ты точно знаешь, что книга хорошая. Скажи ему, что это – бестселлер.
– Хорошо, Марсия, – нежно сказал Гораций.
Ее веки снова сомкнулись, и Гораций подошел к постели, поцеловал ее в лоб и задержался на мгновение, с нежностью глядя на нее. Затем он вышел из комнаты.
Всю ночь перед его глазами плясали небрежный почерк, постоянные грамматические и орфографические ошибки и нестандартная пунктуация. Он просыпался несколько раз за ночь, исполненный доброжелательной бессмысленной симпатии к желанию души Марсии излить себя в словах. Для него в этом было нечто неопределенно-патетическое, и впервые за несколько месяцев он вспомнил о своих собственных полузабытых мечтах.
Ему хотелось написать серию книг, популяризующих новый реализм, подобно тому, как Шопенгауэр популяризовал пессимизм, а Уильям Джеймс – прагматизм.
Но жизнь рассудила иначе. Жизнь всегда хватает людей и заставляет их цепляться за летящие кольца. Он рассмеялся, вспомнив стук в дверь, прозрачную тень в Хьюме, угрозу поцелуя.
– И это все еще я, – вслух удивленно произнес он, лежа на постели, окончательно проснувшись. – Это я – тот человек, сидевший в Беркли, опрометчиво рассуждавший о том, будет ли стук действительно существовать, если бы не было уха, его слышащего. Этот человек – я! Меня могли бы посадить на электрический стул за все его преступления! Бедные неосязаемые души, пытающиеся материализоваться! Марсия с ее написанной книгой, я – с ненаписанными моими… Долго выбираем себе посредника, а затем берем что дают – и счастливы этим!