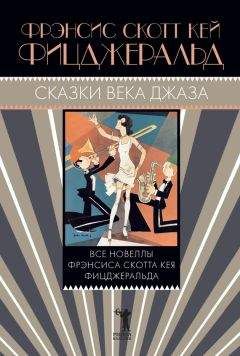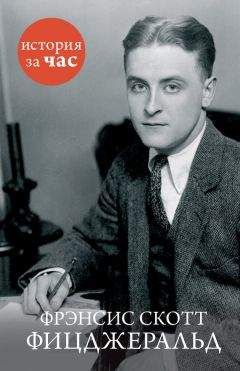Миссис Файрбоат натягивала перчатки, воздавая хвалу эффекту обширности дома, возникавшему благодаря открывавшемуся из просторного музыкального салона виду на библиотеку. На заднем плане вид включал в себя еще и часть столовой. И правда, это был один из прелестнейших маленьких домиков города, и миссис Пайпер уже поговаривала о переезде в дом побольше, на авеню Деверю. «Судя по всему, этот Гарольд Пайпер, как говорится, печатает деньги», – подумала миссис Файрбоат.
Осенний день клонился к вечеру; на лице миссис Файрбоат, свернувшей в это мгновение на тротуар, появилось то строгое, слегка неприятное выражение, которое почти все состоявшиеся сорокалетние женщины предпочитают носить на улице.
«Если бы я была Гарольдом Пайпером, я бы проводила немного меньше времени на работе и немного больше – дома, – думала миссис Пайпер. – Кто-нибудь из его друзей просто обязан поговорить с ним».
Но если миссис Файрбоат сочла вечер удачным, то, задержись она в доме еще на пару минут, она назвала бы его триумфальным. Ее темная удалявшаяся фигура еще виднелась в сотне ярдов от дома, когда весьма хорошо одетый, но слегка обезумевший молодой человек свернул на дорожку, ведущую к дому Пайперов. Миссис Пайпер, услышав звонок, сама отворила ему дверь и быстро провела гостя в библиотеку– скорее смущенно, чем радостно.
– Я должен был вас видеть, – исступленно заговорил он. – Ваша записка свела меня с ума! Это Гарольд вас так напугал?
Она покачала головой.
– Все кончено, Фрэд, – медленно проговорила она, и губы ее еще никогда не были так похожи на распустившуюся розу. – Вчера вечером он пришел домой в ярости, потому что чувство долга у Джесси Пайпер оказалось сильнее чувства такта: она пришла к нему в контору и рассказала все городские сплетни о нас с тобой. Это ранило его – ох! Я ничего не могу поделать, я просто не могу видеть его в таком состоянии, Фрэд! Он сказал, что мы, оказывается, все это лето были главной темой сплетен в клубе, а он ни о чем и не догадывался! И только сейчас он начал понимать случайно услышанные им обрывки разговоров и завуалированные намеки. Он в ярости, Фрэд, и он любит меня – более того, я его люблю!
Гедни медленно кивнул головой и полуприкрыл глаза.
– Да, – сказал он. – Да, мы с тобой очень похожи. Я так же, как и ты, чересчур хорошо понимаю точку зрения другого человека.
Его искренние серые глаза встретили ее потемневший взгляд.
– Счастливые времена позади. Господи, Эвелин, я весь день просидел в конторе, снова и снова перечитывая твое письмо…
– Ты должен сейчас же уйти, Фрэд, – перебила она, и легкая поспешность в ее голосе стала для него новым ударом. – Я дала ему честное слово, что больше не буду с тобой встречаться. Я знаю, насколько далеко можно зайти, когда имеешь дело с Гарольдом, и твой приход – именно то, чего делать никак нельзя!
Они разговаривали стоя, и, произнося последнюю фразу, она двинулась по направлению к двери. Гедни выглядел глубоко несчастным, пытаясь в этот момент навсегда запечатлеть в сердце ее образ, – а затем они оба застыли, как статуи, неожиданно услышав звуки шагов с улицы. Ее рука сейчас же протянулась и схватила его за отворот пальто, почти что втолкнув через раскрытую дверь в темную столовую.
– Я заставлю его подняться наверх, – прошептала она. – Не двигайся, пока не услышишь, что он поднимается по ступенькам. Затем уходи как можно быстрее.
И он остался один, прислушиваясь в темноте, как она приветствует мужа в коридоре.
Гарольду Пайперу было тридцать шесть, он был на девять лет старше жены. Он был красив – но красоту его портила одна неприятная черта: слишком близко посаженные глаза, вызывавшие у наблюдателя впечатление «одеревенелости» лица, когда оно находилось в состоянии покоя. В ситуации с Гедни он занял самую типичную для него позицию. А именно он сказал Эвелин, что многое обдумал и никогда не будет ни упрекать ее, ни даже вспоминать об этом – что вовсе не обмануло Эвелин; себе же он сказал, что надо смотреть на вещи шире. Как и все люди, озабоченные широтой своего взгляда на вещи, он смотрел на все с зоркостью крота.
Сегодня он поприветствовал Эвелин с преувеличенной сердечностью.
– Тебе нужно поскорее одеться, Гарри, – натянуто произнесла она. – Мы опаздываем к Бронсонам.
Он кивнул.
– Я уже одеваюсь, дорогая, – и направился в библиотеку!
Сердце Эвелин громко застучало.
– Гарольд… – начала она, и голос ее слегка дрогнул. Она пошла вслед за ним. Он закурил. – Надо торопиться, Гарольд, – закончила она, остановившись в дверях.
– Зачем? – спросил он с игривым раздражением в голосе. – Ты же сама еще не одета, Эви!
Он растянулся в уютном моррисовском кресле и развернул газету. Эвелин почувствовала, что это означало по крайней мере десятиминутную задержку, – а Гедни все еще стоял, не дыша, в соседней комнате. По всей вероятности, Гарольду хотелось пропустить стаканчик – спиртное было в буфете, и, значит, Гарольд должен был зайти туда перед тем, как подняться наверх. Эвелин пришло в голову, что лучше упредить эту нежданную помеху, самолично принеся ему бутылку и стакан. Она боялась привлечь его внимание к столовой – но рискнуть все же стоило.
В этот момент Гарольд поднялся и, отбросив газету, подошел к ней.
– Эви, дорогая, – сказал он, нагнувшись и обняв ее. – Я надеюсь, ты не переживаешь из-за того, что произошло между нами вчера…
Она, дрожа, придвинулась к нему поближе.
– Я знаю, – продолжал он, – что с твоей стороны это было всего лишь неблагоразумной дружбой. Все мы делаем ошибки.
Эвелин с трудом понимала, о чем он вообще говорил. Ей хотелось схватить его в охапку и потащить наверх по ступенькам. Ей хотелось сказаться нездоровой и попросить его отнести ее наверх – к сожалению, она знала, что он наверняка уложит ее на кушетку прямо здесь и пойдет за виски.
Неожиданно ее нервное напряжение достигло крайней стадии. Она услышала очень слабый, но безошибочно узнаваемый скрип паркета в столовой. Фрэд пытался выйти черным ходом.
Затем ее сердце чуть было не выпрыгнуло из груди – потому что по дому пронесся глухой, звенящий звук, похожий на звук гонга. Рука Гедни задела большую хрустальную чашу.
– Что это? – воскликнул Гарольд. – Кто там?
Она вцепилась в него, но он вырвался; ей показалось, что комната раскололась. Она услышала, как приоткрылась дверь кухни, услышала шум схватки, бряцанье упавшей откуда-то жестянки; в отчаянии бросилась она в кухню и сделала поярче газовый светильник. Руки мужа медленно отпустили шею Гедни; он застыл – сначала в изумлении, а затем на его лице забрезжила боль.
– Боже! – произнес он, и повторил: – Боже!
Он развернулся – казалось, он собирался снова наброситься на Гедни; но затем замер, его мускулы расслабились, и он горько рассмеялся.
– Вы люди – всего лишь люди…
Руки Эвелин обнимали его, ее глаза смотрели на него с неистовой мольбой. Но он оттолкнул ее от себя и, как оглушенный, свалился на кухонный стул. Его взгляд остекленел.
– Ты наставила мне рога, Эвелин… За что, маленькая ведьма? За что?
Еще никогда ей не было так жаль его; еще никогда она не любила его так сильно.
– Она ни в чем не виновата, – кротко сказал Гедни. – Я лишь зашел…
Но Пайпер покачал головой, и выражение его лица было таким, будто его сотрясал какой-то физический недуг и его мозг отказывался работать. Взгляд, неожиданно ставший жалким, отозвался сильным, болезненным аккордом в сердце Эвелин – и одновременно с этим ее захлестнули ярость и гнев по отношению к Гедни. Она почувствовала, как горят ее веки; она топнула ногой; ее руки нервно заерзали по столу, ища какого-нибудь оружия, – а затем она неистово накинулась на Гедни.
– Вон отсюда! – кричала она; ее черные глаза сверкали, маленькие кулачки беспомощно колотили по его вытянутой руке. – Это все из-за тебя! Убирайся! Пошел вон! Вон отсюда!!!
II
Когда миссис Гарольд Пайпер исполнилось тридцать пять, мнения разделились: женщины говорили, что она все еще красива, мужчины же – что она уже не так мила. Вероятно, это случилось из-за того, что ее красота, которой ревниво опасались женщины и которую боготворили мужчины, как-то поблекла. Глаза оставались все такими же большими, такими же черными и такими же печальными, но в них больше не было таинственной загадочной поволоки; их печаль больше не казалась божественно прекрасной, она стала всего лишь человеческой. У миссис Гарольд Пайпер появилась некрасивая привычка: когда она была испугана или рассержена, что-то заставляло ее свести брови и несколько раз моргнуть. Ее рот также потерял былое очарование, – губы утратили яркость. Кроме того, раньше, когда она улыбалась, уголки ее рта опускались вниз, что прибавляло печали выражению ее глаз и было одновременно и трогательно, и прекрасно, – а теперь эта черточка исчезла… Теперь, когда она улыбалась, уголки ее губ поднимались вверх. Раньше, когда Эвелин наслаждалась собственной красотой, ей нравилась ее улыбка – и она всячески ее подчеркивала. Но когда она перестала ставить на ней особое ударение, улыбка исчезла – а вместе с ней и последние остатки былой загадочности.