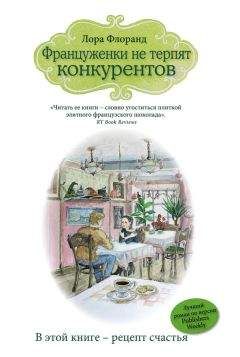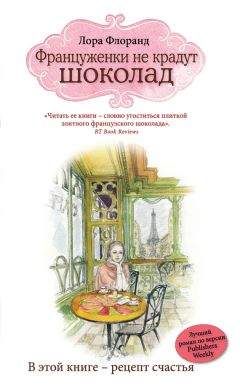– Я имела в виду более личный духовный уровень.
Он настороженно смотрел на нее, словно сомневался, хотел ли он узнать ответ на зародившийся у него вопрос.
– А неужели тот мир, Магали, что мы создали вместе с тобой… пусть даже, говоря реалистично, это крошечный островок понимания… так легко закрыть?
И вновь она попыталась замкнуться в упрямом противостоянии, хотя душа ее начала извиваться, мучительно желая вырваться на свободу. Она так испугалась, что по спине побежали мурашки, словно он подвел ее к краю могилы.
– Нет, – отрывисто сказала она, не глядя на него и чувствуя себя полной дурой. – Но твои родители никогда не осмеливались лишать никого права выбора.
– Возможно, было бы лучше, если бы они осмелились. Двадцать пять лет они сами разрывались между духовными и материальными потребностями.
– Какая неудачная дилемма. Мне жаль их, но я думаю, что в итоге они вполне преуспели или просто могли позволить себе столь долгие колебания.
– Ты же даже не знакома с ними!
– Верно. Возможно, я переоцениваю их силу воли.
А есть ли у нее самой сила воли? Какая уж там сила воли! В его руках она казалась себе мягкой глиной.
Он нерешительно помедлил, потом печально улыбнулся:
– В любом случае я не вижу никакого противоречия между тем, кто ты есть, и тем, с кем тебе хочется быть, Магали. – Улыбка исчезла, и лицо его стало очень серьезным. – Или, может быть, ты могла бы объяснить мне, какое противоречие видишь ты.
Никакого. Она просто совершенно запуталась и никак не осмеливалась выпустить на свободу замкнутые на замок чувства.
Он тяжело вздохнул и покачал головой:
– Магали. Знаешь, что на самом деле я собирался сказать, когда спрашивал тебя об отдыхе в лавандовых полях? Я хотел спросить, не могли бы мы создать там нашу семью, потому что вдруг увидел в тебе маленькую черноволосую и кареглазую девочку, и подумал, как было бы славно, если бы у нас появилась дочка, похожая на тебя. Разумеется, я забегаю в далекое будущее, но такого рода видения постоянно преследуют меня, когда я думаю о тебе.
Она замерла в оцепенении. Словно скрытый под твердой оболочкой мягкий шоколадный десерт с начинкой, растекшейся сентиментальной нежностью.
Он быстро пересек маленький кабинет, опустил взгляд на ее упрямо сжатые кулачки, а потом его рука проскользнула под ворот ее блузки и подсунула ключ в бюстгальтер.
– Мне хочется, чтобы ты распоряжалась им. Чего, черт возьми, ты хочешь от меня помимо секса и сражений на баррикадах, я не представляю.
Ее баррикада опять стала почти неприступной. Но он вынудил ее слишком широко открыться. Он вынудил ее возродить затаенные стремления. Ее ужасала собственная сентиментальная слабость. Он мог вмешаться в ее жизнь и переделать ее так, как угодно ему. И еще она продолжала видеть ту девочку в лавандовом поле. Гордую малышку. Сильную малышку. Малышку, необходимую лишь одной ее матери. Ту девочку, которая выросла и уже просто не могла больше позволить себе никакой слабости, никаких уступок людям, способным забыть о ней.
Ключ на ее груди излучал приятное тепло. Не следовало ей принимать его так легко. Все в ней вдруг взбунтовалось.
– Нет, – развернувшись к нему, произнесла она с тихим отчаянием. – Никаких детей. Никаких девочек в лавандовых полях. – Ее голос, жутко изменившийся от сдерживаемых из последних сил слез, хрипел как мотор старой колымаги. – Не рви ты мне душу. Не пытайся приспособиться к моей жизни, Филипп. Держись подальше от этого ада.
Не взглянув на тетушку Эшу, она вытащила из-под ковшика ключи, взлетела наверх, отперла чертов новый замок и, захлопнув за собой дверь, ожесточенно закрыла его на все обороты. Потом рухнула на пол, обхватила голову руками и зарыдала.
«Я не могу сделать этого. Не могу… Он завладеет моей душой и опустошит меня безвозвратно».
Она каталась по голому полу, рыдания сменились тихими причитаниями, ее истерзанная душа уже не могла породить яростных воплей.
«Я не могу опять стать той девочкой в лавандовом поле. Не могу». Играть в эти дурацкие игры. Изображать, что все в порядке.
«Мне и здесь-то с трудом удается осознавать себя нормальным человеком». Претендуя на колдовство с дурацким шоколадом, претендуя на то, что она нужна людям, что перед ней открылись тайны иного, особого мира. И их кафе, в сущности, никому не нужно, не говоря уж о ее скромной роли в кулинарном мире. Едва открылся Филипп, как все, мгновенно забыв о ней, переметнулись к нему. Ее тетушкам даже не нужно само кафе. Оно для них подобно игрушке; им даже не важно, приносит ли их игрушка доход.
И шоколад. Господи, да любой в состоянии приготовить горячий шоколад. Первую же встречную девицу с улицы они могли научить готовить его, если бы действительно нуждались в помощнице. Она же не обладает талантами Сильвана Маркиза или Филиппа Лионне, эти мастера неподражаемы. Вот без них действительно никто не может обойтись.
Кроме нее. Ей никто не нужен. Она могла бы обойтись и без Филиппа. Так она и строила свою жизнь. Или она строила свою жизнь, пытаясь заманивать прохожих на свою орбиту дурацким шоколадом, потому что на самом деле оставалась совершенно одинокой?
Внезапно она приподнялась с полу и накрыла ладонью новый замок, надежный замок, отрезавший ее от всего мира. Какая ирония. Филипп превратил ее дом в крепость, в которую теперь даже ему не удастся проникнуть.
Если только она сама не впустит его.
Она отползла от двери и повалилась на кровать, но оттуда, приподняв голову, она могла видеть его кондитерскую, поэтому предпочла вновь сползти на пол.
«Я не могу, не могу, не могу. Просто он слишком властен. Что останется от меня, если он… если мы… продолжим отношения?»
Раздался тихий стук в дверь.
– Магали? – позвала тетушка Эша.
– Я просто хочу побыть одна, понятно? – крикнула Магали. – Неужели это чертовски трудно понять? Просто мне хочется побыть одной!
И, зарывшись лицом в колени, она вновь зарыдала.
Снаружи доносилось бормотание тетушки Эши, а потом всепроникающий, как у Филиппа, голос Женевьевы.
– Оставим ее в покое. Женщине следует побыть в одиночестве, если она того хочет.
Шаги по ступенькам вскоре затихли.
А Магали продолжала рыдать. И злиться. Она и не представляла себе, что в ней скопилось так много злости, ведь она всегда так легко справлялась с любыми проблемами. Злость на ту маленькую девочку, в испуге выглядывающую из-за материнского плеча на уходящего вдаль папу. Злость на ожидание верности от восьмилетних одноклассников, считавшихся ее друзьями, но быстро забывших о ней. Злость на свою пятнадцатилетнюю наивность, на то, что обрекла себя на муки ради невероятного шанса создать собственный мир. На готовность пожертвовать невинной юностью ради того, чтобы, подобно матери, обрести одного постоянного спутника, одного родного человечка, который всегда будет нуждаться в ней… хотя потом тот человечек, ребенок, в свою очередь мог вырасти и уйти, и она опять осталась бы одинокой и никому не нужной.
И никаких больше попыток навязываться со своей любовью.
Безнадежных попыток. Ужасных. Жалких.
И Филипп тоже виноват в этой ее накопившейся злости. Все шло просто прекрасно, пока на его сжатых челюстях не заходили желваки от гнева после ее рассказа о том ее романчике, когда ей было пятнадцать, пока его взгляд с высоты тридцатилетнего опыта на ее первый мучительный роман не заставил ее осознать, что теперь она тоже по-другому воспринимает те дни, вспоминая их с мучительным отвращением, сожалением и… злостью. А ведь долгие годы она даже не вспоминала о той глупой попытке. Ну, может быть, изредка и поверхностно. И жизнь ее шла просто прекрасно. К тому же первый злосчастный роман отвратил ее от любых новых треволнений на любовном фронте, а если попадался вдруг симпатичный мужчина, то оживали обжигающие воспоминания, и она, просто сморщив носик, изгоняла его из прекрасной целостности той жизни, что она придумала для себя, независимой жизни, неуязвимой для внешнего мира.
Зарывшись лицом в подушку, она вновь заплакала, думая о своей безупречной, прекрасной жизни в этой безупречной прекрасной собственной квартире на этом идеальном маленьком острове. Только когда перышки прилипли к ее мокрому лицу и рукам, Магали осознала, что растерзала в клочья ни в чем не повинную подушку.
Что спровоцировало новый приступ рыданий, потому что… это была хорошая, крепкая, дорогая подушка, и неожиданно Магали подумала, какие еще крепости могла бы уничтожить. Задумалась о том, что еще она способна запросто разбить или сломать. Она рассеянно вытерла лицо, перышки запутались в ее ресницах, и тогда ей все-таки пришлось подняться и отправиться в душ, чтобы смыть с себя оперение.
Выйдя из душа, она увидела себя в зеркале и вдруг замерла, пристально вглядываясь в эту незнакомку, пытавшуюся силой ворваться в ее независимую жизнь.