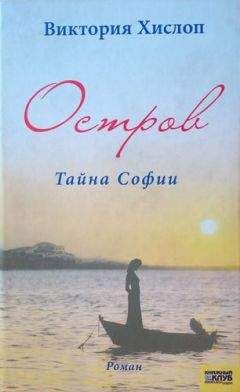Мария и Киритсис стояли на причале до тех пор, пока паром не исчез на горизонте. И только тогда повернулись, чтобы уйти. Ощущение пустоты было невыносимым.
А для Софии ее путешествие в Афины стало бегством от прошлого, от клейма проказы и неизвестности в отношении своего происхождения. Лишь через несколько месяцев она набралась сил для того, чтобы написать письмо.
Дорогие мама и отец! (Или я должна называть вас дядя и тетя? Мне уже ни то ни другое не кажется правильным.)
Мне жаль, что наше расставание было таким тяжелым. Я была ужасно потрясена. Я и до сих пор не могу все толком осознать, и мне становится не по себе, когда я обо всем этом думаю. Но как бы то ни было, я пишу, чтобы вы знали: я здесь хорошо устроилась. Мне нравятся лекции, и, хотя Афины намного больше и грязнее, чем Айос-Николаос, я уже привыкла ко всему.
Я напишу еще. Обещаю.
С любовью,
София.Это письмо сказало все и ничего. Мария и Киритсис продолжали получать письма с описанием ее жизни и частенько даже восторженные, но ничего не говорившие о том, что чувствовала София. В конце первого учебного года они были горько разочарованы, хотя и не слишком удивлены тем, что София не вернулась домой на каникулы.
София стала одержима своим прошлым и решила потратить лето на то, чтобы отыскать Маноли. Сначала след казался теплым, и София прошла по нему через Афины, потом через другие части Греции. Потом источники стали не слишком надежными, это были, например, телефонные справочники и налоговые службы, и София решила просто навещать всех, кто носил фамилию Вандулакис. Она нашла двоих, эти люди с неловким видом выслушали короткие объяснения Софии, а потом извинения за то, что она их побеспокоила. В общем, след, каким бы он ни был, остыл окончательно, и однажды утром София проснулась в гостинице в Салониках, пытаясь понять, какого черта она тут делает. Даже если бы она нашла этого человека, она ведь все равно не знала наверняка, отец ли он ей. И кого бы ей следовало предпочесть в этой роли: убийцу, застрелившего ее мать, или человека, соблазнившего Анну, а потом бросившего ее? Выбор был не из лучших. А может, стоит наплевать на неопределенность собственного прошлого и начать строить будущее?
В начале второго учебного года София познакомилась с человеком, который вскоре стал значить для нее куда больше, чем отец, кем бы он ни оказался. Это был англичанин по имени Маркус Филдинг, он проходил частичный курс обучения. Маркус был большим и светлокожим и от солнца покрывался красными пятнами, у него были яркие голубые глаза, что в Греции большая редкость. А одежда на нем постоянно выглядела немного мятой, как это бывает только у англичан.
У Маркуса никогда не имелось настоящей подруги. Он то ли слишком уж был погружен в учебу, то ли просто чересчур застенчив, чтобы ухаживать за женщинами, и он считал сексуальную свободу Лондона в начале семидесятых пугающей. Афины в тот период времени и не помышляли о подобной революции нравов. В первый же месяц после возобновления учебы он познакомился с Софией и сразу решил, что это самая прекрасная девушка из всех, кого он когда-либо видел. Хотя София выглядела вполне светской девушкой, она не позволяла вольностей, и Маркус искренне удивился, когда она приняла его приглашение.
Через несколько недель они уже стали неразлучны, а когда Маркусу пора было возвращаться в Англию, София решила бросить университет и поехать с ним.
– Меня тут ничто не держит, – заявила она как-то вечером. – Я что-то вроде сироты.
Когда Маркус стал возражать, София заверила его, что все так и есть.
– Нет, в самом деле, – сказала она. – У меня есть дядя и тетя, они меня вырастили, но они живут на Крите. Они не станут возражать против того, что я уеду в Лондон.
Больше она ничего не сказала о своем детстве, а Маркус не стал расспрашивать, но настоял на том, что они должны пожениться. Софию не пришлось долго уговаривать. Она полностью и окончательно, со всей страстью влюбилась в этого человека, и у нее не было ни малейших сомнений в том, что он всегда будет с ней.
Однажды холодным февральским днем, когда мороз держался до полудня, они поженились в мэрии в южной части Лондона. Приглашение на эту церемонию, весьма неофициальное, несколько недель стояло на высокой полке над камином в гостиной Марии и Николаоса. Они могли бы увидеть Софию в первый раз после того, как она села на паром и исчезла из их жизни. Жгучая боль брошенности, которую они испытывали так остро, впервые слегка утихла, уступив место ноющей боли понимания. Они отправились на эту свадьбу со смешанным чувством волнения и тревоги.
Но им обоим мгновенно понравился Маркус. София не могла бы найти более доброго, более надежного человека, и они именно этого и желали – увидеть ее довольной и защищенной, пусть даже их радость портил тот факт, что теперь-то уж точно не следовало ожидать возвращения Софии на Крит. Марии и Николаосу понравилась английская свадьба, хотя ей, на их взгляд, недоставало ритуала и традиционности, к которым они привыкли. Все выглядело как обычная вечеринка, если не считать того, что было произнесено несколько речей. Но самым странным показалось им то, что невеста никак не выделялась из гостей, потому что была одета в красный брючный костюм. Мария, совсем не говорившая по-английски, была всем представлена как тетя Софии, а Николаос, владевший английским блестяще, – как ее дядя. Они все время держались вместе, и Киритсис служил переводчиком для своей жены.
После этого они задержались в Лондоне еще на два дня. Мария была просто ошеломлена городом, в котором теперь предстояло жить Софии. Для Марии Лондон был сродни другой планете, местом, непрерывно пульсировавшим шумом автомобильных моторов, заполненным чудовищными красными автобусами и плотными толпами людей, проносившимися мимо витрин с тощими манекенами. Это был город, в котором его обитатели не имели шансов случайно столкнуться с кем-нибудь знакомым. И для Марии это стало первым и последним случаем, когда она покинула родной остров.
Даже выйдя замуж, София продолжала практиковать искусство лавирования между тайной и ложью. Она убедила себя в том, что сокрытие, то есть акт «не рассказывания» чего-либо, – это совсем не то, что неправда, высказанная вслух. Даже когда родились ее собственные дети – первой, всего через год после свадьбы, стала Алексис, – София поклялась себе никогда ничего не говорить им о своей критской родне. Их следовало оградить от их собственных корней и навсегда защитить от бесконечного позора прошлого.
В 1990 году, в возрасте восьмидесяти лет, доктор Киритсис скончался. В британских газетах появилось несколько коротких некрологов, всего в десяток строк, – в них говорилось о вкладе доктора в исследования бациллы лепры. София аккуратно вырезала их и сохранила. Несмотря на то что между супругами Киритсис разница в возрасте была почти в двадцать лет, Мария пережила мужа всего на пять лет. София полетела на Крит, лишь на два дня, на похороны тети, и ее охватило чувство бесконечной вины и утраты. Она наконец осознала, что ее восемнадцатилетнее самолюбие привело к эгоцентризму и неблагодарности, и то, как она покинула Крит много лет назад, явилось с ее стороны ужасным поступком, но теперь было поздно сожалеть об этом. Слишком поздно.
Именно в это время София решила окончательно стереть свое прошлое. Она избавилась от тех немногих вещиц, что остались от матери и тети и хранились в коробке в глубине одного из шкафов, и однажды днем, до того как дети вернулись из школы, стопка пожелтевших конвертов с греческими марками была сожжена в камине. Потом она вынула фотографию дяди и тети из рамки и спрятала за нее те несколько газетных вырезок, что кратко и немногословно описывали жизнь Киритсиса. Эти отчеты о самых счастливых днях супругов стояли теперь вместе с фотографией у кровати Софии – это было все, что осталось от ее прошлого.
Уничтожая материальные свидетельства своей истории, София пыталась сбросить со счетов прошлое, но страх его обнаружения постоянно грыз ее, как некая болезнь, и с годами чувство вины за то, как она обошлась с дядей и тетей, все усиливалось. Оно засело в глубине ее желудка, словно тяжелый камень, – это было сожаление, которое иной раз заставляло Софию ощущать себя физически больной, когда она думала о том, что исправить ничего нельзя. А теперь и ее собственное дитя покинуло дом, и София острее прежнего ощущала боль раскаяния, понимая, что причинила родным непростительные страдания.
У Маркуса хватало ума не задавать лишних вопросов, он уважал желание Софии избегать любых упоминаний о ее прошлом. Но дети росли, и их критская кровь проявлялась все отчетливее: у Алексис были прекрасные темные волосы, а у Ника – черные ресницы, эффектно обрамлявшие его глаза. София постоянно боялась того, что однажды ее дети могут узнать, какими людьми были их предки, и у нее все сжималось внутри. Но теперь, глядя на Алексис, София сожалела о том, что не была более открытой. Она видела, что дочь смотрит на нее изучающе, как будто никогда прежде ее не видела. И в том была только ее вина. София сама превратила себя в незнакомку для детей и мужа.