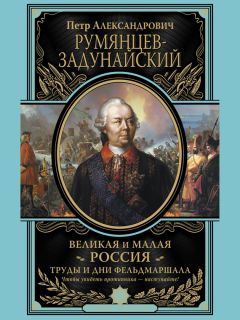В шесть часов вечера противник, вероятно считая, что на станции никого не осталось и что командный пункт нашей позиции уничтожен, прекратил обстрел, и мне удалось уговорить Великого князя уехать в Тлусте. Почти сейчас после его отъезда прибыл генерал Черячукин[13] и сообщил, что сзади подходят 3-й и 4-й Заамурские конные полки, всего восемь сотен, примерно по сто человек в сотне. Я приказал ему оставить шесть сотен в версте за станцией Дзвиняч в балке, а две сотни спешить и удлинить ими левый фланг Ингушей. К Залещикам Заамурцы должны были отправить конные разъезды.
Летний день догорал. Красное солнце громадным прозрачным шаром опускалось к Днестру. В темнеющем небе не было ни облачка. На позициях была полная тишина.
Я отдыхал от жары и волнений на скамейке станции, когда адъютант Ингушского полка, ротмистр Баранов тихо доложил: «Черкесы ушли из Залещиков».
«Как ушли?»
«Около двух часов тому назад у них случилась паника, они сели на лошадей и ускакали. Говорят, они уже за Тлусте».
«Не может этого быть!»
«Уверяю Вас».
В смутном предчувствии чего-то непоправимо тяжелого я пошел со станции к тому месту, откуда видны были поля, примыкающие к Залещикам.
Оттуда, оставляя за собою облака пыли, скакал солдат. Это был рослый, могучий подпрапорщик Заамурского полка. Он круто осадил свою маленькую белую лошадку и, прикладывая руку к фуражке, громким голосом доложил:
— Ваше превосходительство, от Залещиков цепями отходит наша пехота, за нею идут австрийцы. Их без конца.
— Вы сочиняете! — крикнул я, чтобы хотя бы на мгновение парализовать то страшное впечатление, которое произвел на всех доклад подпрапорщика.
— Никак нет, — начал было подпрапорщик, но я грубо оборвал его: «Этого не может быть! Лошадь!»
По словам подпрапорщика выходило, что австрийцы массами шли нам во фланг и тыл, что от них до нас было не дальше двух верст, и до Тлусте, где совершенно беспечно стоял штаб 2-го кавалерийского корпуса и где был Великий князь, все обозы, все тяжести, было всего семь верст. Один час, какое? — полчаса — и там будет паника, и Великому князю придется, бросая все, бежать на автомобиле. Кровь бросалась в лицо. Этого не могло быть. Этого быть не должно.
— Вы ошибаетесь, подпрапорщик, — сурово сказал я, садясь на лошадь, которую бегом подал вестовой.
* * *
Я поскакал. Ветер бил в лицо. Перед глазами, вдоль полотна железной дороги, прямая, чуть поднимаясь на холм, шла мягкая, пыльная дорога. Горизонт был закрыт этим холмом. Скакавшие сзади далеко отстали. Проскакав немного больше версты, я поднялся на гребень. Отсюда стала видна вся долина Днестра и показались сады Залещиков. Поля полого спускались к отрывистому берегу, и на том берегу зеленели далекие нивы, позлащенные последними лучами солнца. День умирал, а с ним умирали моя честь и доброе имя. В эти минуты ясно было, что жизнь ничто в сравнении с честью.
Едва я выехал на гребень и остановил лошадь, как ощутил посвистывание пуль. Вправо, за каменной будкой, прятался Заамурский разъезд. Несколько человек из него лежали по гребню. В полуверсте, неся ружья на плечо, быстро шли ополченцы. Они не стреляли. Сзади, постреливая на ходу, шли австрийцы. Одна, две, три, четыре… пять цепей, и поднимались от Залещиков еще и еще. Зеленое поле, поросшее низкою пшеницей, ячменем и овсами, сплошь было покрыто стреляющими, нагнувшимися, горбатыми от ранцев фигурами.
Положение было серьезное. Нечего было и думать скакать к ополченцам и останавливать их. Их было так мало и так много было австрийцев.
Спасти могла только конная атака.
Я повернул лошадь и помчался на станцию. В голове ураганом неслись мысли. Я считал время: «Минуту я скакал туда, полминуты там, минуту обратно. Им идти не менее пятнадцати минут. Мало… мало времени. Как-то скоро раскачаются Заамурцы».
У станции толпились ожидавшие меня, встревоженные офицеры. Я увидел генерала Черячукина. Это был мой старый товарищ по службе, и я с ним был на «ты».
— Александр Васильевич, — крикнул я ему, — садись на лошадь.
Ко мне подошел полковник Мерчуле.
— Из штаба дивизии по телефону спрашивали, что у нас. Там уже знают о бегстве Черкесов. Там тревога. Что сказать?
— Скажи, что все хорошо. Мною приняты меры. Я еду на разведку и донесу, когда сам все точно узнаю.
Генерал Черячукин подъехал.
— В чем дело?
— Скачи со мною… Это что за лошадь у тебя? — Нарочно задал я ему посторонний вопрос.
Мы поскакали по дороге к его полкам.
— Посади четыре сотни на коней, — сказал я, когда мы увидели в балке густые толпы людей и белых лошадей.
— В чем дело? — снова спросил меня Черячукин.
— После узнаешь.
Я ничего не говорил. Я знал, что сказать, что будет конная атака — это вызвать колебания, сомнения, расспросы, а время было слишком дорого. Сердце отбивало каждую его секунду, и хотя часы говорили, что прошло всего пять минут, казалось, что прошла целая вечность.
— Оставшиеся две сотни, готовься к пешему строю. Идти цепями вдоль шоссе, правый фланг по полотну железной дороги. Направление на запад. Встретите ополченцев. Остановить их, залечь вместе с ними и окопаться, — отдавал я приказания стоявшему передо мною пожилому ротмистру.
— Понимаю, ваше превосходительство. Конные сотни выезжали из оврага на Шоссе.
— Командуй «Строй взводы», — сказал я Черячукину.
Он уже понял, в чем дело, и не расспрашивал. Лицо его стало бледно, и красиво выделялась на остром подбородке черная борода.
— Рысью! Марш!
Заамурцы потянулись по шоссе.
— В резервную колонну — марш!
— В линию колонн — марш! — подавал я команды.
На западе, на высоком берегу Днестра, точно чьи-то страшные очи, очи смерти, открылись, блеснули, один за другим, двенадцать пушечных выстрелов и двенадцать снарядов с глухим воем понеслись нам навстречу.
«По нам, — подумал я и сейчас же сообразил, — по пыли». Над полком, на сухом поле, поднималось громадное облако пыли. Снаряды пронеслись над головами и с треском лопнули сзади нас.
— Строй фронт, — сказал я. — Строй фронт, — скомандовал Черячукин. Как на смотру, раздвинулись сотни. Вторые ряды придвинулись вправо, третьи и четвертые влево, и сплошная линия шла за нами.
— Передняя шеренга в лаву галопом! Задняя на триста шагов сзади. Вдоль шоссе. Направление на Залещики.
Обгоняя нас, вырывались серые монголки. Слышны были команды сотенных командиров:
— Шашки к бою, пики на бед-ро… Мы поднимались на гребень. Артиллерия противника била беглым огнем большими очередями, и снаряды гудели над головами непрерывным гулом. Но все давали перелет.
Я услышал команду «марш, марш» и громовое «ура».
Несколько Мгновений как бы туман застилал мои глаза: страшная трескотня ружей продолжалась по всему полю. Свистали пули. И вдруг все стихло. Точно кто-то как пламя свечи задул, — задул эту трескотню. И стих артиллерийский огонь. Где-то далеко трещал еще пулемет.
Кругом было поле. Там и сям виднелись отдельные всадники. Какой-то солдат на окровавленной лошади ехал навстречу. Он рыдал. Он посмотрел на меня потухшими, но не злобными глазами и сказал плачущим голосом:
— Все погибло, ваше превосходительство. Никого в живых не осталось!
— Да ведь ты жив! Он тупо посмотрел на меня.
— Я жив, — продолжал я.
Он смотрел на меня и перестал плакать.
— В самом деле, — сказал он.
— Поезжай за мною!
Маленькая группа Заамурцев вели большую группу пленных. И по виду этих пленных, и по торжественной тишине темнеющего поля, где все чаще и чаще раздавались стоны, я понял, что победа полная.
Проехав еще, я встретил генерала Черячукина, ехавшего с двумя трубачами. Я подъехал к нему, поздравил с победой и приказал трубить сбор.
— Собирай полк, выясняй потери и число пленных и веди полк к станции, а я поскачу на телефон. Надо успокоить штаб.
Я посмотрел на часы. С того момента, как мне сказал подпрапорщик о прорыве фронта, прошло всего восемнадцать минут.
В два часа ночи на станцию приехал на автомобиле толстый, старый генерал. Это был начальник 2-й Заамурской пехотной дивизии. Развернув карту, он, при бледном свете зарождающегося утра, расспросил меня о позиции и со своим начальником штаба стал составлять приказ.
Веско звучали произносимые слова:
«5-й полк одним батальоном займет линию от шоссе на Тлусте до оврага, другой будет наступать для овладения лесом и селением Жезовой…»
В восемь часов утра пехота окончила смену, и мы пошли через Тлусте на новую, более легкую позицию, по берегу Днестра.
Веселое, ясное солнце заливало золотыми лучами цветущие поля пшеницы и ячменя, у дороги цвели колокольчики, белая ромашка и алые маки были раскиданы среди полей, голубели там и сям зацветающие васильки, и жаворонки звенели в прозрачной голубой вышине.