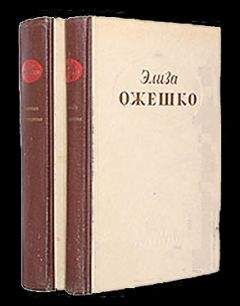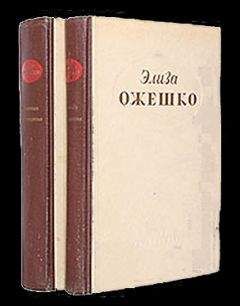— Прикажи кому-нибудь послать ко мне Марту! — крикнул пан Бенедикт вслед уходящему сыну и обратился к Юстине: — Ты с отцом переговорила?
Юстина не успела это сделать. Пан Ожельский вставал поздно, потом завтракал в своей комнате, а когда он был занят едой, то решительно ни на что не обращал внимания.
— Так ступай к нему сейчас же и скажи, — все-таки, он отец, — а мне с Мартой потолковать нужно, порасспросить.
Юстина прошла пустую столовую и хотела, было подняться на лестницу, как ее кто-то окликнул по имени. Она обернулась назад и увидела бледное, страдающее лицо Зыгмунта.
— Что вам нужно, кузен? — спросила она.
— Переговорить с вами… умоляю вас всеми святыми, одну только минуту!
— О, с удовольствием, — с равнодушной любезностью ответила Юстина и подошла к нему.
— Кузина! Правда ли… правда ли, что вы отказали Ружицу и выходите за какого-то… que sais-je?.. однодворца?
— Правда, — спокойно сказала Юстина.
— Боже, такой неравный брак! Знаете, ведь это просто безнравственно!
Юстина с нескрываемой насмешкой посмотрела ему прямо в глаза.
— Ошиблась ли я, или вы действительно становитесь на защиту равенства в браке и нравственности?
Он немного смутился, но с лица его не исчезла тень страдания.
Юстина хотела, было уйти, но он схватил ее за руку.
— Что же дальше? — холодно спросила Юстина.
— То, — горячо заговорил Зыгмунт, — что я догадываюсь, по какой причине ты решилась на этот безумный шаг. Понимаю… ты хочешь отделить себя непроницаемой стеной от воспоминаний прошлого… от старого чувства… от меня! Если бы ты вышла за Ружица, мы принадлежали бы к одному свету, должны были бы встречаться друг с другом, видеться… Вот ты и бежишь в другую сферу… хочешь смешаться с толпой для того, чтоб умереть для меня, для того, чтоб я для тебя умер!
Юстина смотрела на него широко раскрытыми глазами, сначала не понимая значения его слов, потом, не доверяя своим ушам.
Зыгмунт совершенно искренно приходил в отчаяние и схватился руками за голову.
— Не делай этого, заклинаю тебя! Не губи себя и не обременяй так страшно мою совесть!.. Как призрак убитого мной человека, ты вечно представлялась бы моим глазам! Сжалься надо мной и над самой собой! Клянусь, я удалюсь отсюда, я буду избегать тебя… я помогу тебе справиться с бурей, клокочущей в твоей груди, — с той страшной бурей, которая привела тебя к такому отчаянному решению.
Только теперь она поверила своим ушам и, наконец, поняла его. Тщетно она силилась подавить улыбку, но не выдержала и залилась громким, неудержимым смехом, звонким как серебро. То был смех юной, счастливой души, счастливой настолько, что любой пустяк вызывал в ней почти детское веселье. Звеня переливами этого счастливого смеха, она отвернулась от Зыгмунта, пробежала через сени и быстро поднялась наверх. Она уже исчезла за поворотом лестницы, а смех ее все еще слышался в сенях, сливаясь с брызжущими радостью звуками скрипки, играющей то staccato, то allegro.
Зыгмунт выпрямился, раскрыл рот, окинул взглядом свою фигуру и процедил сквозь зубы:
— Мужичка…
В небольшой комнатке, между неубранной постелью и столом с бритвенным прибором, пан Ожельский, одетый в цветной халат, играл на скрипке. Его голубые глаза устремлялись куда-то вдаль, он улыбался, приподнимался на цыпочки, словно хотел улететь вместе со звуками своей скрипки; тихий ветерок, врывавшийся в открытое окно, развевал его молочно-белые волосы.
Юстина, вся раскрасневшаяся, со смеющимися глазами, подошла к отцу.
— Отец, — сказала она, — мне нужно поговорить с вами об одном очень важном деле.
Старик перестал играть и рассеянно посмотрел на нее.
— Что там такое? А! Знаю!.. Пан Ружиц… Подожди немного, дай мне кончить серенаду…
Юстина села у окна, терпеливо дожидаясь, а звуки серенады — то staccato, то allegro, то снова andantissimo — долго еще раздавались в комнате. Наконец они смолкли. Громко чмокнув губами, старик поцеловал кончик смычка и блаженно улыбнулся.
— Что? Какова серенада-то? Прелесть!
А в эту же самую минуту в кабинет пана Бенедикта входила Марта, против своего обыкновения тихо, еле переступая огромными ногами.
— Ты прислал за мной, — начала она, — но я сама бы пришла, потому что у меня к тебе большая просьба… только я уж не знаю… честное слово… как и сказать…
— Что? Или и ты обручилась с каким-нибудь красивым парнем? — подшутил Бенедикт.
Марта махнула рукой и села на краешек стула.
— Не такая я дура, чтоб о подобных вещах думать, — со странной кротостью и мягкостью ответила она, — но видишь ли… Юстина замуж выходит, и если ты согласишься… если позволишь, я тоже хочу поселиться у ней в ее хате…
— Что? Что? — воскликнул Бенедикт.
— Честное слово, мне очень хочется поселиться у них, — с опущенными глазами, сложив на коленях руки, продолжала Марта. — Хлеба их я даром есть не стану, хозяйство я знаю, да и силы еще кое-какие остались. Им и руки мои пригодятся, и подчас посоветоваться будет с кем. А здесь я не нужна… вечное горе!.. Никому не нужна! Никому не нужна! Никому, никому!
— Как не нужна? Что ты толкуешь? — загорячился Бенедикт.
Марта покачивала головой, украшенной высоким гребнем, и повторяла:
— Не нужна. Что же? Дети выросли, твоей жене я никогда и ни в чем не могла угодить, а что касается хозяйства… важное дело! Экономку на мое место возьмешь. А Юстина уважает меня, любит… она всегда меня больше всех любила. Притом и тех людей, к которым она идет…
Она заикнулась и провела рукой по влажным глазам.
— И тех людей я когда-то знала… любила… сама судьба сближала меня с ними… Не пошла я к ним тогда, зато теперь пойду, поработаю с ними немного, а потом, — этого ждать недолго, — они оденут меня в шесть досок и сами отнесут на кладбище. Вот чего мне хочется. Юстина и Янек через два месяца хотят венчаться… за это время ты найдешь себе экономку. Ух, не могу!
Она поперхнулась и закашлялась.
Бенедикт молча слушал и, наконец, разразился:
— Вздор! Скоро весь Корчин к Богатыровичам переедет!.. Ну, — прибавил он с улыбкой, — разве только моя жена и панна Тереса останутся.
Он встал и подошел к Марте.
— Что ты городишь? Какая глупость тебе в голову полезла? Ты тут не нужна! Боже милосердый! Мы тут с тобой двадцать лет трудимся! Тут только и было двое работников! Не нужна! А что бы я стал делать, если б тебя при мне не было? Не будь тебя, — кто еще знает, удержался ли бы я в Корчине! Женщина почтенная, работящая, опытная в доме и хозяйстве — и не нужна! Да ведь ты детей моих на руках вынянчила, ты их как мать… и за мать… любила и ласкала! Витольд многим тебе обязан, ты добрые, человеческие понятия вложила ему в голову… И я всегда считал тебя другом, искренно любил тебя, только, видишь, разные хлопоты и беды сделали меня таким хмурым, что мне и высказывать не хотелось то, что лежало на сердце. Но я благодарен тебе, до гробовой доски благодарен, и не пущу тебя… как хочешь, не пущу… Вздор! Она не нужна! Целый век как вол трудилась — и не нужна! Ее никто не любит! А я? Выросли вместе, работали вместе…
Пан Бенедикт широкими шагами ходил по комнате, дергая усы и размахивая руками. Марта подняла на него свои блестящие черные глаза, которые мало-помалу смягчались.
— Золото ты мое, — воскликнула она, наконец, — и ты вправду так думаешь, как говоришь? Ты не из сострадания к старой родственнице, не из вежливости говоришь так?
— Да ей-богу! — крикнул Бенедикт, — опомнись! Сама подумай!
— Боже мой, боже! — Марта обычным порывистым движением вскочила со стула и схватила руку пана Бенедикта. — Милый ты мой! Дорогой! Вот осчастливил ты меня! А я думала, кому тут нужна старая глупая старуха? Ведь ты не знаешь, что такое значит прожить всю жизнь без любящего сердца возле тебя, без доброго слова человеческого! Вечное горе меня грызло, тоска, уныние такое, что подчас под землю скрыться хотелось. Я и убеждала себя, и внутри меня что-то все требовало, чтобы какая-нибудь душа приласкала меня, чтобы прилепиться к кому-нибудь, быть кому-нибудь полезной. Хотела было я попробовать там… но теперь уже не хочу… честное слово, не хочу, не пойду… Вечный смех! Зачем мне туда идти, если я тебе нужна и если ты меня любишь, как брат сестру? О милый мой, как ты меня утешил, как обрадовал! Вечная радость!
Она целовала его плечи, смеялась, плакала и, в конце концов, раскашлялась так, что минуты две не могла выговорить ни слова.
— Теперь, — начала она, немного успокоившись, — теперь ты разреши мне взять пару лошадей на несколько дней. В город хочу поехать, к доктору… Нужно полечиться, чтобы служить как следует. Три года тому назад я простудилась, когда убирала овощи на зиму, но не обращала на это внимания. «Зачем лечиться? На что? Вечное горе!» — думала я. Кроме того, и хлопот не хотелось никому доставлять. По временам мне плохо приходилось, но я все скрывала, словно какое-нибудь преступление. Думала, чем скорей, тем лучше. А теперь дело совсем другого рода. Если я тебе нужна, если ты меня любишь и уважаешь, то мне нужно лечиться, чтоб служить получше, а, может быть… Уф! Не могу!