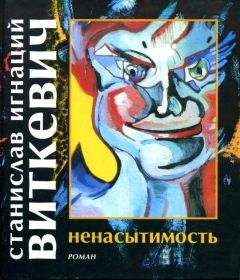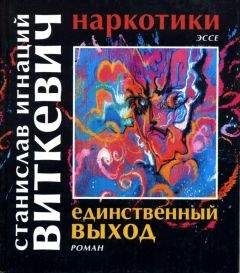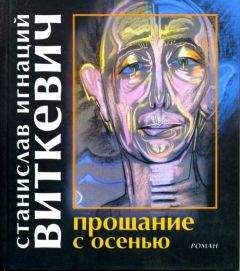Раздался телефонный звонок — мол, то да се, так-то и так-то — по репликам генерала Генезип понял, что речь идет о смерти Элизы. Он встал, вытянулся по стойке смирно, а когда Коцмолухович положил трубку, с некоторым изумлением обратив на него свои чудесные бездонные глаза, отчеканил, как рапорт:
— Я задушил ее, потому что слишком ее любил. Может, это безумие, но так оно и есть. Хочу служить только армии. Это могло мне помешать. Прошу помилования. Все искуплю на фронте. Не отказывайте мне, господин генерал, — ведь наказать можно и потом. — Он замер, устремив собачий взгляд на пресветлый лик Вождя. Коцмолухович смотрел и смотрел без конца — смотрел и завидовал. Зипек стоял, не дрогнув. «Однако ж безумец изрядный — высокая проба», — подумал Вождь. «Да ведь тут и я не без вины», — вспомнил он одно из последних донесений Вемборека. Уж не пережил ли этот молодой идиот что-то такое, чего никогда не достигнет и не поймет даже он сам, единственный в своем роде человек на свете, который абсолютно ничего не принимает всерьез. Пауза затягивалась непомерно. Послеобеденная атмосфера второразрядной столичной квартирки. Тиканье часов, всякие домашние ароматики, которые просачиваются даже сюда и смешиваются с запахом сигар, «miełkoburżuaznaja skuka». И на этом фоне — такие вещи!
Если б в эту минуту Зипку бросили в тюрьму или даже приговорили к смерти, он воспринял бы это с тем же безразличием. «Но если придет момент пробуждения и наконец я все пойму? — подумал он автоматически, бессодержательно. — Тогда смерть — причем в ужасных муках — брр». — Это произнес внутри него еще кто-то новый, поднимавшийся с распоследнего дна души, готовый завладеть всем его оцепеневшим телесным механизмом. Между двумя личностями: того, кто возникал теперь, и того, кто в детстве (слезка) спускал бедных песиков с цепочек, — была пустота, заполнить которую не мог никто и ничто — «пауза в духе», как определял это состояние, не слишком точно, Бехметьев. Чтоб это понять, надо самому быть безумцем — что исключает точное и объективное описание этого и вообще всякого явления, — порочный круг. А тот все смотрел, и смотрел, и смотрел на сына своего друга (и собственного «несостоявшегося» сына), и казалось, своим ясновидящим взглядом он видит не только мозг этого странного преступника, но даже и то, как расположены в этом мозгу частицы белковых соединений, и даже (согласно концепции физикалистов) электроны и прочие, все более мелкие, до бесконечности, фиктивные (а может, реальные — в т о й ж е с т е п е н и реальные, что и системы небесных тел — о Боже! если так... но кто же знает? — это слишком страшно...) элементы идеальной материи-энергии, понятийно восходящие к: а) первому попавшемуся предмету, то есть предмету вообще, б) движению и в) нашей, непосредственно данной в виде последовательности качеств, мускульной силе. Гениальный квартирмейстер видел не только данную минуту и все, что было (у него, кстати, имелись донесения о всяких частностях Зипкиного прошлого, как и вообще о жизни всех адъютантов), но и будущее «пегеквака»: он будет жить долго и счастливо, этот трупик, которым стал Генезип из-за своего преступления. А сам он? — ха — лучше не думать. Вся проблема была в том, что сразиться предстояло с противником, неизмеримо более сильным, — о победе нечего было и мечтать — все равно как пытаться пальцем остановить курьерский локомотив. Но несмотря ни на что, конец д о л ж е н быть красивым. Когда все будет кончено, он пойдет в атаку во главе своего штаба и погибнет. На фоне этой бездонной (?) мысли огнем полыхнула вся наличная реальность. — Можно только сказать: «ха!» — и ничего больше. «А может, он потом с ней все-таки того...» (по поводу преступного вечерка у Перси). Он не окончил этой мысли — раз и навсегда. Замуровал ее, как Мазепу (?). Прошло, может, полчаса, может, минут сорок пять. И вдруг красивенький юнец заговорил, а тот еще до этого успел подумать: «А ведь той истеричке (когда-то он познакомился с Элизой на каком-то балу) небось было приятно погибнуть от руки такого смазливого пижона. Жаль, я не пидор — продрал бы его, как бурую суку».
— Докладываю — и т. д. — ...еще раньше я убил полковника — фамилию опять забыл — я был тогда безнадежно влюблен в госпожу Звержонтковскую. — Квартирмейстер вздрогнул, хотя думал о том же самом. Эта фамилия всегда производила на него впечатление. Он двусмысленно обожал все, что относилось к ней: туфельки, чулки, румяна, ленты, даже сам звук ее имени и фамилии. «Это ее, это все ее», — говорил он себе в душе в некие страшные минуты. Сейчас, в финале этого последнего, быть может, «детанта», ему просто до невозможности захотелось привычной экзотики с Перси наедине. Он встал, звякнул шпорами и сказал, с хрустом потянувшись:
— Все знаю и ни о чем не спрашиваю. По сравнению с тем, что произойдет, все это «miełoczi» — a «miełoczi k czortu!». Мадмуазель Перси рассказывала мне — она теперь моя секретарша. Завтра едем на фронт. На фронт — понимаешь, ты, шут? Такого фронта земля не помнит, и такой встречи таких людей, как мы с Вангом, она еще не видывала. Видишь ли, дурашка, я не преувеличиваю. Сам увидишь — и радуйся. Пока они там разберутся, что никто, кроме тебя, не мог этого сделать, мы будем далеко отсюда. Ты все искупишь, а верней всего — мы все погибнем. Теперь ты мой. Такие люди мне нужны — безумцы тоже. Ты, Зипек, безумец еще тот, но я таких люблю, я в них нуждаюсь и буду их защищать. Это вымирающая раса. А может, я тоже безумец? Ха-ха! — засмеялся он адски, душераздирающе свободно. Поцеловал Зипека в лоб, после чего позвонил. Адъютант спокойно сел в кресло, перед тем молчаливо поклонившись. Ха — давно бы так! — а теперь не важно. Вошел ординарец, «глупый Куфке», как его называли. [Он знал своего господина как облупленного — порой через него передавали безнадежные просьбы, и (о чудо!), как правило, они бывали удовлетворены. Он знал такие минуты, о которых его господин сам не имел понятия. Умел прочесть по легкому подергиванию щеки, по невзначай блеснувшим смоляным самовластным глазам. Вообще-то, он был глуп — что правда, то правда — зато у него была эта — ну, как она называется? — интуиция — да — хоть и женская, короткой дистанции.] — Скажешь госпоже генеральше, gawno sabaczeje, что я ненадолго поехал в контору. Буду часов в девять. Завтра в восемь утра едем. Все приготовить. А господина подпоручика проводи в его комнату. Гостевая номер три. Марш спать, Зипек, мигом. Ночью придется поработать. — Он протянул адъютанту руку, властную, но мягкую, и легким юношеским шагом вышел из кабинета. Потом сел в авто (которое всегда — день и ночь — дежурило у ворот) и поехал к Перси. Там началось что-то чудовищное. Лучше и не догадываться. Он не выдержал, рассказал любовнице все, а она ему выболтала новые подробности о Зипеке и его терзаниях, и это возбудило их еще больше; тем более что Перси убедила генерала, что это она руками Зипека, на почве его безумной любви к ней, убила Элизу. Как видно из предшествующего, это была неправда — разве что включилось подсознание? — но кто ж тут разберется. Психоаналитиков в те славные времена уже не было. Но с этой минуты мысли Перси приняли иной оборот — о, совсем иной. Какое-то предчувствице совершенно диковинного будущего на миг мелькнуло в ее «чудной» головке. И она упросила генерала, чтоб он взял ее с собой на фронт. Сделала что-то такое, что ему пришлось согласиться. Несмотря на то что она страшно боялась (хотя, с другой стороны, для женщины всегда какой-никакой выход найдется), она должна была так поступить.
Восемь утра. Через полчаса отходит штабной поезд на фронт, а фронт уже готов — в последнюю минуту Коцмолухович его выстроил. Гениальный план, рожденный почти подсознательно в этом чудовищном турбогенераторе — в мозгу непобедимого стратега, осуществился там, в далеких полях, болотах и лесах польской Белой Руси прямо-таки с магической точностью. Дорого бы дали китайцы, чтоб выведать эту концепцию, чудесную в своей простоте. Но не бывать тому, ибо на бумаге ее не существует. «Der geniale Kotzmolukowitsch» все держит в голове. Приказы были телефонированы всем командующим корпусов отдельно, диспозиция определялась вплоть до рот, эскадронов и батарей. Ни одной бумажки. Непорочно чистая карта без единого флажка перед глазами и телефон в так наз. «оперативном кабинете», за ч е т в е р н ы м и изолирующими подушками. Если б кто и подслушал какой разговор, он не узнал бы ничего. Специальная подземная линия, отдельные участки которой знало лишь несколько человек, ну, и те офицеры — всегда разные, — что эти участки прокладывали. А приказы такие — и это за два дня до контрнаступления: Звонок. «Алло. Командование 3-го корпуса. Генерал Некшейко? Слушайте и записывайте. 13-я дивизия: участок длиной 4 км от Брюховиц до Снятина. 21-й пехотный полк: Брюховицы — Великая Липа. 1-й батальон: Брюховицы. Штаб — высота 261, изба угольщика возле березовой рощи. Фронт ОСО. 300 шагов направо от большого дуба с красным крестом — 2-я батарея и 1-й дивизион 5-го полка 6-дюймовых минометов. 2 гаубицы на В., 30 м налево от голубых хат у дороги на Снятин» и т. д., и т. п. У другого бы в башке все перепуталось. А этому — хоть бы что, все нипочем. Аж охрип, и все болтает, болтает, болтает без умолку. Один в комнате — другой бы рехнулся — а этот ни на волос, ни на миг не потерял самообладания. Мало инициативы у командиров групп? — ну и что? Дураки же все, кроме него, — все бы ему испортили. Собаки, которых можно натравить, — не более. Он один знает — он, господин над господами.