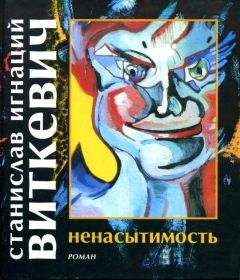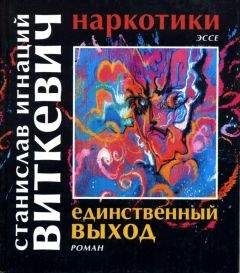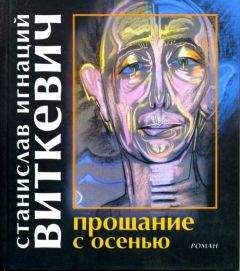Поезд мчался, как выстреленный снаряд, — его было не удержать и не отклонить — к неведомому «приговору истории», к двурого ощетинившемуся китайскому чему-то (что это было, не знал никто, даже сам Мурти Бинг, если только он действительно существовал). А командор этой дикой экспедиции был в превосходном настроении. Он тоже переживал пик своей мечты. Наконец-то он был тем «личным воплощением смертельного удара», как его называли штабисты, — таким с убийственной тоской он видел себя в воображении в мирные дни. Наконец-то лопнула пуповинка, соединявшая его с постылой повседневной жизнью. Пусть это будет недолго, но уж он отведет душу за все про все. Но бедняга ошибся (кто осмелился сказать такое?!! Расстрелять его!!!) — это был еще не высший миг. Высший крылся в точкомоменте гиперпространства, отмеченном в относительном земном календаре просто: 9 утра, 5 X, Пыховицы, — там, на фронте, заранее выстроенном в гениальной башке квартирмейстера. Однако не все можно предвидеть даже при столь безупречно действующем аппарате, каким был мозг Вождя. Но об этом позднее. Пока это был высший момент — ничего не поделать. Пускай придут другие, еще выше, — квартирмейстер ничего не имел против, он был «запанибрата» с мощнейшими стихиями мира: жизнь на вершинах, а смерть неважно где, лишь бы она была хороша, то есть была геройской, «настоящей» — в момент, когда действительно будет исполнена миссия его духа на этой планете, лишь бы, песья мать, эта смерть была прекрасна, как мечта девочки из рода вождей об идеальной гибели взлелеянного в мечтах рыцаря. Пока именно так все и обещало быть. Вождь без сожаления смотрел на убегавшие изумрудные поля, желтую стерню и сосновые лесочки — может, в последний раз — а может? — э — лучше не верить в чудеса. А если уж чудо произойдет, тогда и радоваться. Впереди была почти космическая катастрофа — необходимая, как развязка в греческой трагедии. Было несомненно, что другого выхода нет и быть не может. Он думал всегда наперед — никогда задним числом — это была его метода. Мысль у него всегда опережала жизнь, а не плелась за ней. До роковой минуты все должно быть так, как он желает, черт возьми! — а там посмотрим. Он зарылся губами в пушистые кудри Звержонтковской и сквозь ее блондинистые пряди поглощал пейзаж, летевший в раме широкого окна вагона. Переутомленные товарищи Вождя в большинстве своем дремали на красном шелку диванов. Часть не на шутку завалилась спать — ночь они провели, интенсивно прощаясь с жизнью. План операции потенциально был готов — оставалось только продиктовать его командирам отдельных групп так, чтоб они не могли понять его во всей полноте. Пока больше нечего было делать — только «энтшпанироваться» вовсю. Он взял Перси на руки, как вещь, и вынес из салона в спальное купе. Зип даже не дрогнул — атрофия эротических чувств, что ли, черт побери? Иные натуры только в безумии обретают максимум счастья — чуть ли не с рождения он еще не был так счастлив. Предавшись чужой воле, он пребывал в неподвижности у главной турбины событий, возле самого очага сил такого масштаба, как Коцмолухович (чего ж еще надо?), — пристроился в укромном уголке на мчащемся снаряде — маленькая блошка на пятнадцатидюймовой гранате, рвущей запыхавшийся воздух. Лишь иногда, боковым центром сознания, он испытывал страх, что очнется от этого блаженства. В воображении он четко видел последнюю сцену с Элизой, но непосредственно, эмоционально не мог признать своей вины перед собой и другими за то, что совершил. Все, что было, сложилось в красивую и необходимую картину: живые лица выступали в ней только переодетыми актерами. И все было нормально — ни тени безумия — конечно, только для него.
Был весенний день осени — один из тех дней, когда заходящее (куда?) лето еще раз с упоением простирается над засыпающей землей и переживает эфемерную вторую молодость, как пьяница или другой «зельюн», который бросил пить или ширяться и говорит себе: нет — еще разок. На фронте было тихо, как перед грозой — разумеется, с точки зрения ураганного огня. Для бедной Перси это уже был самый страшный бой, она такого в жизни не видела: китайская артиллерия «пристреливалась» к польским позициям, прощупывая неприятеля и корректируя расчеты. То и дело с китайской стороны, то тут, то там, слышались погромыхивания орудий разного калибра, и к нам, долго гудя в спокойном воздухе, неслись одинокие снаряды и лопались в наших окопах, иной раз причиняя значительный ущерб. Мы провели эту работу еще вчера — дольше ждать было нельзя, хотя это облегчило задачу китайцам. У них было время — у нас — то есть у Коцмолуховича — не было. Осень «стояла» безветренная, и деревья в основном были покрыты листвой, бронзоватой от заморозков. Жнивье и луга поблескивали паутиной, отражая, как в затянутых ряской прудах, матовое, мягкое, сонное солнце. Неисчерпаемая тишина пространства рождала некий суеверный страх. Все, начиная с простых обозных интендантов и до командиров корпусов и групп, совершенно независимо от обычного, естественного страха, были «че-то» странно взволнованны и торжественны. Коцмолухович в сопровождении Зипа и Олесницкого объезжал фронт на маленькой элегантной «пердолетке», как называли этот тип шикарных торпедных танков. Великим облегчением было то, что Лига Защиты Войны исключила авиабомбардировки и газы. Где-то высоко кружили разведывательные самолеты, их то и дело окутывали группы белых облачков рвущейся шрапнели, но никто уже мог не бояться снарядов за сотни километров от фронта. Пожалуй, и свой осколок мог поранить — но для этого надо было быть уже совершенным «nieudacznikom». Именно это и случилось с Коцмолуховичем. Баллистическая головка нашего собственного снаряда врезалась ему в сапог, размочалив подошву и самый носок в момент, когда он беседовал с Некшейко, командиром 3-го корпуса. Некшейко побледнел, Вождь пошатнулся, но не упал. Поднялся переполох. Зип мог изумиться совершенству этой маски — смоляные глазища ни на секунду не утратили своей нахальной веселости. Увы, буквально: Зип мог изумиться, но не изумился — ничто уже не производило на него впечатления. Земляные работы подходили к концу — строились только передовые редуты — линия обороны была готова давно, в 20 км с тыла. Китайцы держались в 10—12 км от нашей передовой. Самые дальние кавалерийские дозоры лишь на 7-м километре вошли в контакт с неприятелем.
Генерал-квартирмейстер пребывал в прекрасном расположении духа. Он уже пересек рубеж сомнений и колебаний — и был подобен выпущенному снаряду. Однако случаются, песья мать, чудеса. Он знал себя и знал, что всегда может ждать от себя чего-то неожиданного. Что же «выкинет» на сей раз его необузданная натура предпоследнего индивидуалиста на этой земле, вплоть до 5 X законсервированная в инфернальном соусе системы польских общественных сил? Он мог гордиться своей армией (= машине): довольно было нажать на кнопку — и «трах»!!.. Но не меньше он мог гордиться и собственной башкой, в которой почти без единой исписанной бумажки потенциально помещалась вся предстоящая адская битва. На миг квартирмейстер ощутил в себе всех вождей Польши, которые когда-либо боролись против монгольских «нашествий». Но вдруг какая-то странная печаль стерла этот светлый миг, как тряпочка стирает пыль с гладкого столика. Почему такое «домашнее» сравнение пришло в голову самому Вождю? Блестящая, непорочная скука охватила его с неодолимой силой: даже самые великие подвиги представились ему абсолютно бессмысленными. Он хотел п р о с т о жить. Но смерть уже бесцеремонно заглядывала под широкий козырек фуражки 1-го кавалерийского полка, чей мундир, украшенный генеральскими нашивками и шнурами, он носил. Это было отнюдь не малодушие, но чистый, лишенный страха смерти сантимент к жизни. Тихий внутренний голос нашептывал ему о еще более тихом житье-бытье в каком-нибудь маленьком домике в военном кооперативе за городом — герань на окнах и дочурка, играющая в саду, — о, в такой же прелестный день, как нынче, — и прелестная пани Ганна со своей философией (теперь он мог бы наконец это осмыслить), и долой всяческие безобразия с этой проклятой «девкой», все эти дикие «энтшпанунги»[220] и «детанты», потребность в которых рождала жизнь, полная напряженной, нечеловеческой работы. По сути дела, это было ему чуждо, было лишь субститутом утоления неосознанной метафизической жажды — стремления быть всем, но только б у к в а л ь н о всем. А тут Небытие.
Как же близко подошел он к этому небытию по гигантской лестнице иерархии возможностей! Едва он оторвался от основы полной заурядности [он, бывший мальчик на конюшне, а потом доезжачий (что это такое?) графа Храпоскшецкого-Слезовского, помещика из Слезова и Дубишек, чей младший сын, майор, командир эскадрона в лейб-легионе Вождя, был теперь его слепым орудием], а она уже влекла его искушением тихого сна, заурядного, почти не сознающего себя существования. «Хамская кровь или что? — «вознегодовал» Вождь сам на себя. — Так-то оно и хорошо — а вот кабы я графом был, не было бы в том никакого форсу». Ах, если б можно было кончить жизнь спокойно, совершив этот безнадежный подвиг, дав эту проклятую битву, которая должна была стать тем самым «opus magnum»[221] всей его жизни? А? И потом только разъезжать по свету с дочкой, показывать ей сокрытые от обычных глаз чудеса и воспитать из нее чудовище — такое, как, к примеру, Перси или он сам, — шепнул тайный голос — брр!.. В свое время его не насытил ни румынский фронт, ни Большевия, ни гениальные городские бои, мастером которых он был — он, кавалерист всей кровью и духом своих потаеннейших потрохов, этот Коцмолокентавр, как называли его на полковых оргиях, когда в алкогольном помрачении, в роли пехотинца едва держась на ногах, он выделывал свои дьявольские кавалерийские, кентавро-драконьи фортели, подавая недостижимый пример поистине «конскому» молодому офицерью. Но по сути своей, изначально был ли он тем, кто он теперь есть? Кем мог бы он стать при «наилучшем стечении» благоприятных обстоятельств? (!) — хозяином скаковой конюшни или конного завода, или профессором коневодства в Виленском университете? Его карьера была ненормальна — он был обязан ею только случайностям — ну, может, немного и себе, но чем бы он был, если б не крестовый поход? Профессором-то он мог стать всегда. А сверх того должен был родиться как минимум графом — но все пропало, и теперь надо было идти напролом. Однако он был невольником чего-то высшего, чем он сам, — ибо отступить не мог.