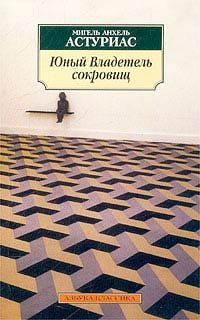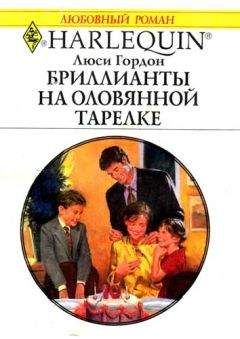— Кончился!
— Он кончился для них! Для нас — нет! Ничего еще не кончилось! Это только начало! Игральные кости брошены, и теперь настала пора сказать: мы начинаем заново!
Жужжит и жужжит швейная машинка. Склонилась над ней Клара Мария — голая по пояс, голова обернута мокрым полотенцем, ноги в тазу с водой. Жара душит. Выпаривает мысли. Не хочется ни о чем думать. А надо приниматься за дела. Надо сузить платье кремового цвета. Аи-аи, как похудела! Затекла рука, и донимают мурашки, преследует какой-то зуд, какая-то боль в локте, в плече, но от работы она не отрывается. Надо сузить юбку, а здесь, на груди, прострочить. А то, пожалуй, лучше сделать вытачку. Еще немного убрать. После бесчисленных любовных схваток опустились грушами груди, и это уже заметно, хотя она постоянно носит специальную грацию. В самых кончиках двурогой луны — двуполюсный магнит, притягивающий, манящий! Жужжание швейной машинки заглушило шаги вошедшего. Взгляни, кто это! Что-нибудь, конечно, неприятное: кобель что-то лает, не к добру. Ошеломлена, поражена была Клара Мария, увидев самого капитана Педро Доминго Саломэ, бледного как мертвец. И сразу же нахлынули другие чувства — счастье, радость и гордость охватили женщину: вернулся сам, по своей воле, не дожидаясь ее зова, как случалось прежде, когда приходилось вымаливать встречу перед образом святого Антония, обрызганным агуардьенте и обкуренным сигарой-самокруткой.
Но вся радость улетучилась молниеносно, даже слезы выступили на глазах, как только она разглядела его — какой он больной, хилый! Человек, стоящий на краю могилы. Остекленевшие глаза, не мигая, уставились куда-то вдаль; дышит он словно животом, а не легкими, и пахнет от него скверно-прескверно…
Он даже не обнял ее. Бедняга! Лишь провел рукой по плечам, как бы желая удостовериться, что она тут… вся, не исчезла. Температура, по-видимому, была настолько высока, что он уже еле-еле соображал, — ощупью нашел постель. Рухнул на койку, доска доской. Попросил стакан воды. Она ушла и через минуту вернулась. Не сразу. Не могла же она подать ему воду в стакане, которым пользовалась каждый день. Вынула из шкафа голубовато-бирюзовый графинчик, цвета незабудок, и стакан такого же цвета. Как раньше.
— У тебя опять малярия, надо будет растереть… — вздохнула она, прислушиваясь, как жадно глотает он воду.
Педро Доминго воспаленными глазами заглянул в глаза Клары Марии, присевшей на край постели. Согласен на все. Она стала гладить его, вначале нежно, потом все сильнее и сильнее, будто делая массаж, — во время приступа малярии даже легкое прикосновение к суставам отзывается адской болью.
— Немного погодя, — сказала она ему, — я натру тебя спиртом с хиной.
Капитан попросил, чтобы она дала ему передохнуть. Лечение — после, а сейчас ему хотелось растянуться на постели, закрыть глаза, держа ее руку в своих горячих, пылающих жаром руках.
«Не так уж плохо, что у тебя есть Клара Мария… хотя бы как козел отпущения…» — подумала она, но вслух ничего не сказала. Лучшее слово — то, которое не высказано, и, наклонившись над ним, она прижалась щекой к его щеке, раскаленной и колючей, — видимо, последние сутки он не брился.
Шумы дня — гул грузовиков, грохот телег, свистки далеких паровозов — отвлекли мысли Клары Марии. Незаметно, как только Педро Доминго, ее любимый, заснул, она постепенно высвободила свою руку из его ладоней и ушла. Она развела в глубокой тарелке беловатый порошок хины в спирту — если натереть спину, можно облегчить хотя бы немного приступ малярии, — в этом лекарстве она была уверена, иначе не звали бы ее Клара Мария из кабачка «Был я счастлив». Была ли она счастлива с ним? Очень счастлива. Он по-прежнему лежал, вытянувшись на постели. Она не стала его будить. О чем-то вспомнила. Да, надо проверить карманы. В этом деле она была искусна. Но теперь она искала не деньги, а какое-нибудь письмо или фотографию той, что послала телеграмму. Негодяйка! Проклятая! Чтоб ее молния поразила!.. Ничего не нашла. Она сняла с ремня пистолет сорок пятого калибра с инкрустациями из перламутра на рукоятке и длинным вороненым стволом, положила на ночной столик около постели, где стоял приемник.
Ей не давал покоя вопрос: почему он сегодня пришел к ней? Этот вопрос словно повис в воздухе, как колибри над цветком, словно парил меж ресниц. Зачем он пришел? Ищет сочувствия, потому что ему плохо? Ищет любви, потому что ее любит? Неужели малярия оказалась сильнее останков покойника, что послала с мулатом бросить перед дверьми ее дома та, неизвестная, отправившая телеграмму? Ведь та посылала свой зловещий дар, чтобы вырыть пропасть безразличия и вражды между ними, а если бы ей не удалось разлучить их, то она попыталась бы вырыть пропасть вечности между ними. Если не разочарование в любви, так смерть. Будто тяжкий приговор обрушился на них. Ложные догадки, предрассудки. А если она сама захватила врасплох мулата, сама вырвала у него кости из рук! Приговоры исполняются. И вот сейчас ее возлюбленный здесь, лежит, похожий на покойника! Глаза ее заволокли слезы. Разочарование в любви или пропасть вечности? Что лучше? Почему же, бог мой, они должны разлучиться, забыть друг друга или умереть — почему? Кто из них должен умереть?.. Нет, это не ладони были сомкнуты в порыве отчаяния. Это было сердце, разорванное пополам, и прикосновениями пальцев она пыталась сшить обе его половинки. Разве у той, неизвестной, сил больше, чем у нее? Почему тогда та призывала на помощь покойников? Потому что, как ей говорила Тонина Сансивар, нет никакого средства против земли с кладбища, если ее соскребут со дна могилы после черной мессы? И эта собака с помощью мулата вершила свое дьявольское дело при свете луны — тогда, когда полнолуние сменяется последней четвертью — голая, спереди налеплены светляки, пониже спины — дохлая летучая мышь, груди обрызганы каплями жабьего яда, а к животу над пупком привязан портрет Педро Доминго Саломэ…
Обо всем этом поведала ей Тонина Сансивар, старая кумушка с пропитым голосом, как у того зобатого бродяги. Она сказала ей, что почти нет средств против заклятия, если взять земли у покойника и высыпать ее перед дверьми или на пороге дома, ибо тогда один из двух должен погибнуть, если они не позабудут друг друга, если не разлучатся, если не перестанут любить.
По-матерински склонившись над капитаном и вглядываясь в его лицо, еле-еле сдерживая рыдания, она приблизила губы к уху возлюбленного, горевшего в лихорадке, и стала просить, чтобы он покинул ее, чтобы забыл ее, чтобы не думал больше о ней.
Клара Мария тяжело вздохнула. Опустошенная, разбитая, она понимала, что теряет все, разлучаясь с человеком, с которым провела лучшие годы своей жизни, и уже не сможет удержать его, даже если и попытается — даже если и попытается, все равно она потеряет его: он будет обречен на смерть. Лучше!.. Лучше пусть умрет!.. Эти страшные слова она едва не произнесла вслух. Резким жестом, тыльной стороной руки она провела по губам, точно хотела убедиться, не сорвались ли случайно эти слова с губ. Легла рядом с ним и шептала ему: «Любовь моя, вы слышите меня? Я вас теряю… — Она говорила ему «вы» из какого-то кокетства. — Вы знаете, что я вас теряю?.. Подумайте, красавчик, подумайте, сколь велико мое самопожертвование…» — и вдруг ей самой стало тошно от этих слов, от этой льстивой лжи. Самопожертвование?.. Комедиантка!.. Хочешь не хочешь, а потеряешь его, нет, все равно он не сможет остаться с тобой, с Кларой Марией, той самой, из кабачка «Был я счастлив», — вздохнула она, вздохнула, еще раз вздохнула, — …останется с той, другой или со смертью… — опять вздохнула она. — Чем удержать его?.. Конечно, много, слишком много совпадений, и нельзя не поверить Тонине… а вдруг это простая случайность?.. Надо бы вспомнить, когда появился мулат, чтобы посеять землю покойника перед ее дверьми — до того ли, как была получена телеграмма и ушел Педро Доминго? Или после? А телеграмма… почему не доставили ее в казарму? Разве это не случайность, что телеграмму принесли сюда?.. Ведь она всегда наводила о нем справки у караульных, посылала ему записки или просто вызывала его, почему же она не сделала этого теперь, не потому ли, что земля покойника парализовала ее? Не для того ли, чтобы отомстить капитану за обман, чтобы удовлетворить свою страсть — души, а не тела, — она связалась с этим юным рыжим гринго с голубыми глазами и даже пустила его в свою постель?.. Ха-ха! Джаз, джаз!.. Но бесполезно сейчас ломать голову над тем, чего уже ни исправить, ни изменить. Что было, то было. Вероятно, из копчика покойника был пепел, посеянный перед ее порогом. Как случилось, что она искала забвения с тем щенком!.. Была холодной, пошла по сходной… Она чуть не рассмеялась вслух, даже в горле защекотало, когда вспомнила: джаз-джаз-джаз!..
— Прости меня, — сказала ей Тонина Сансивар напоследок. — Разбила я твое сердце, но не могла скрыть от тебя, насколько мрачно все это. И только ты можешь исправить дело, если смоешь кровью или огнем «тоно» покойников, подброшенных тебе. Кровью надо смыть, кровью того, кто сделал тебе зло, или огнем, в котором тебе самой придется превратиться в пепел, — поджечь самое себя и сгореть. Когда на человека падает это «тоно», очень трудно от него избавиться. Кровью или огнем! Что касается нас, «тоно» это, как и душа, всегда с нами, оно важнее души, сопровождает нас и после смерти.