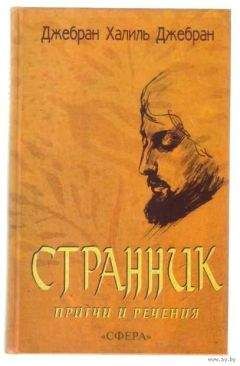«Я разыщу этого человека и узнаю его сокровенную тайну, – решил я, – ибо тот, кто отказывается от царской власти, более велик, нежели сама эта власть».
В тот же день я отправился в лес, ставший ему пристанищем. И я нашел его сидящим под белым кипарисом с посохом в руке, словно то был скипетр. И я приветствовал его так, как если бы предо мной был царь.
Он повернулся ко мне и кротко молвил:
Что привело тебя в этот лес, исполненный тиши и покоя? Ищешь ли ты под сенью зелени свое потерянное «Я» или в сумерках держишь путь к себе домой?
– Я искал лишь тебя, – отвечал я. – Искал, чтобы узнать о причинах, побудивших тебя предпочесть лес царству.
– История моя коротка, – сказал он, – просто я внезапно прозрел. Случилось это так: сидел я как-то во дворце у окна, выходившего в сад, где прогуливались мой придворный советник и чужеземный посланник. Когда они приблизились к окну, я услышал, как советник говорит о себе следующее: «Я во всем похож на царя; я жаден до крепкого вина и падок до всяческих азартных игр. И у меня, как и у владыки моего, – грозный нрав». После этих слов они скрылись среди деревьев. Однако вскоре воротились, и на сей раз придворный советник говорил уже обо мне: «Владыка мой, царь, во всем похож на меня: такой же искусный стрелок, так же, как я, любит музыку и совершает омовение трижды на дню».
Помедлив мгновенье, молодой человек добавил:
– На исходе того же дня я покинул дворец, взяв с собой только свое платье; ибо не пожелал дальше повелевать теми, кто присваивает себе мои пороки, а мне приписывает свои добродетели.
– Право, диву даюсь, – сказал я, – что за странная история!
– Ничуть, мой друг, – возразил он, – ты постучался в ворота моего молчания и воспринял только сущий пустяк. Ибо кто не предпочел бы царству – лес, где непрестанно поют и пляшут времена года? Многие отдали царство за меньшее, чем уединение и сладостный союз с одиночеством. Неисчислимы орлы, что спускаются с поднебесья жить вместе с кротами, дабы проникнуть в тайны земли. Есть такие, кто отказывается от царства мечтаний, дабы не казаться далеким от того, кто не умеет мечтать. А также и такие, кто отказывается от царства наготы и прикрывает свои души, дабы не устыдить других видом неприкрытой правды и обнаженной красоты. И все же величайший из всех них тот, кто отрекается от царства скорби, дабы не выглядеть надменным и тщеславным.
Затем он поднялся, опершись о посох, и сказал:
– Ступай теперь в большой город, сядь у его ворот и следи за всеми, кто входит в них и вы ходит обратно. Увидишь, встретится тебе и тот, кто, хотя родился царем, пребывает без царства; и тот, кто, хотя подневолен во плоти, властителен в духе – хотя ни ему, ни подданным его это невдомек; а также и тот, кто, хотя и кажется, что властвует, в действительности раб своих собственных рабов.
С этими словами он улыбнулся мне, и тысячью зорь осветились его уста. Затем он повернулся и ушел в глубь леса.
А я, как он мне наказывал, воротился в город и, сев у ворот, стал наблюдать за прохожими. И с того дня во множестве я видел царей, чьи тени скользили по мне, и ничтожны числом были подданные, по которым скользила моя тень.
Четверо рабов обмахивали опахалами старую царицу, которая забылась сном на троне и похрапывала. А на монарших коленях растянулся кот, мурлыкая и лениво щурясь на рабов.
Один раб завел такой разговор:
– Ох и безобразна эта старуха во сне! Гляньте, губы ее отвисли, а дышит она так, будто дьявол душит ее.
Тогда кот, мурлыча, молвил:
– Она и наполовину не так безобразна в сне своем, как вы в своем бодрствующем рабстве.
– Сон, вроде бы, должен был разгладить ее морщины, вместо того чтобы углубить их, – заметил другой раб. – Верно, снится ей нечто жуткое.
– Вот бы и вам дать волю спать и лицезреть во сне свою свободу, – промурлыкал кот.
– Может, ей привиделось шествие всех тех, кого она обрекла на смерть, – предположил третий раб.
А кот промурлыкал:
– Ей-ей, она видит шествие предков ваших и ваших потомков.
– Конечно, болтать о ней легко, – сказал четвертый раб, – но от этого мне ничуть не легче стоять и обмахивать ее.
– И на том свете вам суждено ее обмахивать, ибо что на земле, то и на Небесах, – промурлыкал кот.
Тут во сне старая царица уронила голову на грудь, и ее корона упала на пол.
– Это дурной знак, – сказал один из рабов. А кот промурлыкал:
– Дурной знак для одного – добрый знак для другого.
– А вдруг она проснется и увидит, что корона на полу! – испугался второй раб. – Тогда наверняка она предаст нас смерти.
– Каждодневно, от самого вашего рождения она предает вас смерти, а вам и невдомек, – промурлыкал кот.
– Да, она предаст нас смерти и назовет это жертвоприношением Богам, – подтвердил третий раб.
А кот промурлыкал:
– Только слабых приносят в жертву Богам. Четвертый раб оборвал их разговор, бережно
поднял корону и вновь возложил ее на голову старой царицы, не потревожив ее сна. А кот промурлыкал:
– Только раб вновь водружает упавшую корону. Вскоре старая царица пробудилась и, зевнув, огляделась. А затем сказала:
– Кажется мне, я задремала, и привиделись мне четыре гусеницы на стволе древнего дуба, за которыми гнался скорпион. Не по душе мне этот сон.
Затем она закрыла глаза и уснула. И снова раздался храп. И четверо рабов продолжали обмахивать ее опахалами.
А кот промурлыкал:
– Обмахивайте, обмахивайте ее, тупицы! Вы раздуваете не что иное, как огонь, пожирающий вас.
Вот что поет Змея, стерегущая семь пещер у моря:
– Мой суженый примчится на гребнях волн. Наполнит страхом землю его громоподобный рев, а пламя, вырывающееся из его ноздрей, охватит пожаром небо. С затмением луны мы станем мужем и женою, а с затменьем солнца я рожу на свет святого Георгия[24], который умертвит меня.
Вот что поет Змея, стерегущая семь пещер у моря.
Как-то в юности мне довелось посетить одного святого старца в уединенной роще за холмами. Мы беседовали о природе добродетели, когда заметили разбойника, с трудом взбиравшегося по хребту.
Достигнув рощи, тот пал перед старцем на колени и сказал:
– О святой человек, облегчи мне душу. Мои грехи тяготят меня.
– И мои грехи меня тяготят, – молвил святой.
– Но я вор и грабитель, – сказал разбойник.
– И я вор и грабитель, – отвечал святой.
– Но я убийца! – воскликнул разбойник. – И в ушах моих вопли множества людей, чью кровь я пролил.
– И я убийца, – отвечал святой, – и мои уши полнятся воплями тех, кого я умертвил.
– Я совершил несметное число преступлений, – не унимался разбойник.
– И моим преступлениям нет числа, – отвечал святой.
Тут разбойник поднялся с колен и пристально посмотрел на старца, и было некое недоумение в его взгляде.
Когда он оставил нас и вприпрыжку сбежал с холма, я повернулся к святому и спросил:
– К чему ты обвинял себя в преступлениях, которые не совершал? Разве не видишь, что человек этот ушел, больше в тебя не веря?
И ответил святой:
– Это правда, он больше не верит в меня. Но зато он ушел премного утешенный.
И тут донеслась до нас песня, которую вдали распевал разбойник и отзвуки которой наполнили долину радостью.
Как-то в моих странствиях я увидел на одном острове чудовище с человечьей головой и железными копытами, которое, не переставая, ело от земли и пило от моря. Я долго наблюдал за ним. Затем приблизился и сказал:
Тебе все мало; неужели ты никак не насытишься и не утолишь свою жажду?
И сказало чудовище в ответ:
– Да, я уже насытился, более того, уморился от еды и питья. Однако завтра земли для еды и моря для питья может уже не оказаться – вот этого-то я и боюсь.
Вот что произошло однажды.
После коронации Нуфсибааль, царь Библоса[25], удалился в свою опочивальню – тот самый чертог, что возвели для него три горных отшельника-чародея.
Он снял корону и царское одеяние и остановился посреди опочивальни, размышляя о себе, теперь уже всемогущем правителе Библоса.
Внезапно он обернулся и увидел, как из серебряного зеркал, подаренного ему матерью, выходит нагой человек.
– Чего тебе? – воскликнул пораженный царь.
– Ничего, – ответил нагой человек. – Скажи лишь, почему венчали тебя на царство?
– Потому что я благороднейший человек в стране, – дал ответ царь.
Тогда нагой человек молвил:
– Будь ты еще благороднее, не стал бы царем.
– Меня короновали, – заявил царь, – ибо я самый могущественный человек в стране.