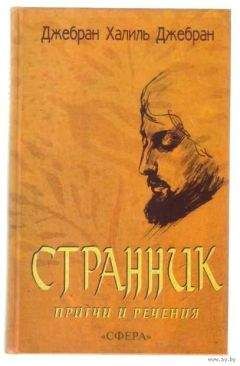Тогда нагой человек молвил:
– Будь ты еще благороднее, не стал бы царем.
– Меня короновали, – заявил царь, – ибо я самый могущественный человек в стране.
– Будь ты еще более могущественным, – молвил нагой человек, – не стал бы царем.
– Меня венчали на царство, ибо я мудрейший человек, – изрек тогда царь.
А нагой молвил:
– Будь ты еще мудрее, не польстился бы на престол.
Повалился тогда царь наземь и горько зарыдал. Нагой человек посмотрел на него, поднял корону, заботливо возложил ее на поникшую голову царя и, не отрывая от него участливого взора, вошел в зеркало.
Поднявшись, царь сразу же посмотрел в зеркало. И не увидел там ничего, кроме себя – увенчанного короной.
На дорогу опускалась ночь, когда один всадник, державший путь к морю, остановился у постоялого двора. Он спешился и, доверяя людям и полагаясь на темноту – подобно всякому, кто верхом добирается до моря, – привязал лошадь к дереву перед входом и вошел.
В полночь, когда все спали, явился вор и украл лошадь путешественника.
Проснувшись утром, тот обнаружил пропажу и глубоко опечалился – оттого что нет у него лошади и что кто-то решился в сердце своем на воровство.
Тут обступили его другие постояльцы и принялись судачить.
– Что за глупость с твоей стороны – привязать лошадь за воротами конюшни, – заявил один из них.
– Даже не стреножив ее – а это еще большая глупость, – добавил другой.
– Надо быть круглым дураком, чтобы до моря добираться верхом, – сказал третий.
– Только ленивец да тихоход ездит верхом, – заявил четвертый.
Тут изумленный путешественник вскричал:
– Друзья мои, раз лошадь у меня украли, вы кинулись наперебой отмечать мои промахи и недостатки. Однако странно: ни слова упрека не нашлось у вас для вора!
Четверо поэтов сидели вкруг стола, на котором стояла чаша с пуншем.
– Мнится мне, – изрек один, – я вижу своим третьим оком, как аромат этого вина парит в пространстве, подобно птичьей стае над неким волшебным лесом.
– А я своим внутренним ухом слышу пение тех призрачных птиц, – промолвил, подняв голову, другой. – И напев пленяет мое сердце – так белая роза заточает пчелку в свои лепестки.
– Я притрагиваюсь к этим птицам своей рукою, – произнес третий, воздев руку и закрыв глаза. – Я чувствую, как их крылья, словно дыхание спящей феи, касаются моих пальцев.
Тогда встал четвертый и, подняв чашу, сказал:
– Увы, друзья! Видно, притупились у меня и зрение, и слух, и осязание. Ни увидеть аромат этого вина, ни услышать его песнь, ни ощутить, как трепещут его крылья, я не в силах. Я только и различаю, что само вино. Посему я должен теперь его выпить – оно обострит мои чувства и поднимет меня до ваших блаженных высот.
И, приникнув к чаше губами, он выпил все ее содержимое до последней капли.
Три поэта, разинув рты, в ошеломлении уставились на него, и во взгляде их была жгучая – вовсе не лирическая – злоба.
Сказал флюгер ветру:
– До чего ж ты настырный и нудный! Разве не можешь не метаться вечно из стороны в сторону, а дуть мне прямо в лицо? Ты нарушаешь мое богоданное постоянство.
Ничего не сказал в ответ ветер – лишь рассмеялся в пространстве.
Однажды старейшины города Арадуса[26] явились к царю с просьбой издать указ, запрещающий народу употребление вина и прочих хмельных напитков в пределах их города.
Царь же повернулся к ним спиной и со смехом удалился.
Старейшины вышли от царя обескураженные.
У дворцовых ворот они повстречали главного придворного советника. Тот заметил, что они расстроены, и догадался, в чем дело.
И тогда он сказал:
– Как жаль, друзья мои! Застань вы государя пьяным, он бы непременно удовлетворил вашу просьбу.
Из глубины моего сердца
Из глубины моего сердца поднялась птица и полетела в небо.
Все выше и выше она взмывала, но при этом становилась все больше и больше.
Сперва была с ласточку, потом с жаворонка, потом с орла, потом величиною с весеннее облако и наконец она уже застила собою все звездное небо.
Из глубины моего сердца в небеса взмывала птица, разрастаясь в полете. И все же сердца моего она не покидала.
* * *
О моя вера, мое неприрученное знание, как воспарить мне к твоей высоте, чтобы с нее увидеть сверхличие человека, начертанное на небесах?
Как обратить мне в туман это море во мне, чтобы унестись за тобою в безмерное пространство?
Как может заточенный в стенах храма узреть его золотые купола?
Как простереть сердцевину плода, да так, чтобы она объяла собою и сам плод?
О моя вера, я в цепях сижу за этими засовами из серебра и эбенового дерева и не могу лететь за тобою.
И лишь одним пребуду я утешен: пусть в небеса подымаешься ты из моего сердца – именно оно заключает тебя.
Царица Ишаны[27] мучилась в родах, и царь с вельможами, затаив дыхание, с тревогой ожидали исхода в огромном зале Крылатых Быков.
На склоне дня во дворец явился запыхавшийся гонец, пал ниц перед царем и сказал:
– Я принес радостную весть владыке моему царю и царству, и рабам царя. Михраб Жестокий, твой заклятый враг, царь Бетруна[28], – умер.
Как услыхали это царь с вельможами, разом поднялись и возликовали: ведь могущественный Михраб, проживи он дольше, непременно захватил бы Ишану и увел ее жителей в полон.
Тут в зал Крылатых Быков в сопровождении царских повитух вошел придворный лекарь и, пав ниц перед царем, сказал:
– Владыка мой царь будет жить вечно, и в бесчисленных поколениях будет он править народом Ишаны. Ибо у тебя, о царь, в этот самый час родился сын, твой будущий наследник.
И опьянилась тогда радостью душа царя: ведь и смерть врага, и рождение сына, утвердившее царское родословие, пришлось на одно время.
Жил в ту пору в городе Ишане один человек, обладавший истинно пророческим даром. Был он молод и смел духом. И вот той самой ночью царь распорядился привести к нему этого человека и, когда тот предстал перед ним, повелел:
– Пророчествуй и открой, что станется в будущем с моим сыном, который родился в сей день, дабы наследовать царство.
– Слушай же, о царь, – отвечал без колебаний прорицатель. – Я предреку будущее твоему новорожденному сыну. Душа врага твоего, царя Михраба, умершего вчера вечером, лишь день витала в воздушных токах. Затем она отыскала для себя тело, чтобы вселиться в него. И это ее обиталище
– тело младенца, рожденного тебе только что.
Царь от таких слов пришел в ярость и своим мечом поразил прорицателя.
И по сей день мудрецы Ишаны тайком перешептываются между собою:
– Уж это точно... Еще в старину говаривали, что Ишаной правит враг!
На бревне, приставшем к речному берегу, сидели четыре лягушки. Внезапно бревно подхватило течением и стало медленно сносить вниз по реке. У лягушек дух занялся от восторга: ведь никогда еще они не пускались в плаванье.
– Право, не надивлюсь я на это бревно, – сказала наконец одна из них. – Оно движется, словно живое. Прежде и слыхом не слыхивали о таких бревнах.
– Да нет, подружка, – возразила другая, – бревно это самое обыкновенное, и ничуть оно не движется. То река несет свои воды к морю, а вместе с ними и нас, и бревно.
– То, что движется, – не бревно и не река, – заявила третья. – Движение – в мышлении нашем. Ибо без мысли ничто не движется.
И принялись три лягушки между собой препираться, что же двигалось на самом деле. Спор становился все жарче, но спорщицы, как ни кричали, не могли прийти к согласию.
Тогда с просьбой рассудить их они обратились к четвертой лягушке, которая до сих пор внимательно их слушала, но хранила молчание.
И сказала четвертая лягушка:
– Каждая из вас по-своему права и никто не ошибается. Движение – и в бревне, и в воде, и в нашем мышлении.
Такие слова страшно рассердили трех лягушек: ни одна из них не могла и допустить, что не вполне права и что две другие не полностью неправы.
Затем случилась престранная вещь: три лягушки сговорились и четвертую – столкнули в воду.
«Сказал лист белоснежной бумаги...»
Сказал лист белоснежной бумаги:
– Чистым я сотворен и пребуду чистым вовеки. Пусть лучше меня сожгут и обратят в белесый пепел, чем я позволю чему-то темному или нечистому даже близко ко мне подойти, не то что прикоснуться!
Чернильница слышала, что говорила бумага, и в черном сердце своем смеялась над ней, однако приблизиться так и не посмела. Слышали ее и цветные карандаши, но подступить к ней тоже не отважились.