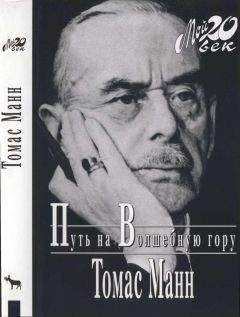Урок закона божия продолжался. Было вызвано еще несколько молодых людей на предмет проверки того, что они знают о жизни многострадального Иова с земли Уц. И Готлиб Кассбаум, сын разорившегося коммерсанта Кассбаума, удостоился, несмотря на неблагоприятные обстоятельства в жизни его семьи, отличной отметки, так как сумел с точностью установить, что у Иова было семь тысяч овец и три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов, пятьсот ослов и очень много слуг.
Затем ученики получили разрешение раскрыть Библии, по большей части уже раскрытые, и стали читать дальше. Когда встречалось место, требующее разъяснений г-на Баллерштедта, учитель припухал, багровел, выдавливая из себя «итак», и после этой подготовки прочитывал маленькую лекцию о спорном вопросе, сдобренную общими рассуждениями о морали. Ни одна живая душа его не слушала. В классе водворялось сонливое спокойствие. К концу урока жара от непрекращающейся топки и газовых ламп заметно усилилась, а воздух от дыханья и пота двадцати пяти тел был уже в достаточной мере испорчен. Духота, тихое жужжание ламп и монотонный голос учителя нагоняли сонную одурь на скучающих мальчиков. На парте Кая графа Мельна, кроме Библии, лежала раскрытая книга: «Непостижимые и таинственные приключения» Эдгара Аллана По; он читал ее, подперев голову своей аристократической и не слишком чистой рукой. Ганно Будденброк сидел, откинувшись назад, и, полураскрыв рот, смотрел сонными глазами на сливающиеся в какую-то черную массу строчки и буквы книги Иова. Временами, вспомнив мотив Грааля или «шествия в собор»[139], он медленно опускал ресницы, чувствуя, что к горлу его подкатывает комок. А сердце его билось в мольбе – только бы не было конца этому безопасному и мирному уроку.
Но ход вещей оставался неизменным, и пронзительный звонок смотрителя, огласивший коридор, вывел из сладкой дремоты двадцать пять подростков.
– На этом кончим, – объявил г-н Баллерштедт и велел подать себе классный журнал, где поставил свою подпись в знак того, что урок состоялся.
Ганно Будденброк захлопнул Библию, нервно зевнул и, дрожа всем телом, потянулся; когда он опустил руки и расслабил мускулы, ему пришлось торопливо и не без труда вобрать воздуху в легкие, чтобы заставить нормально биться свое на миг замершее сердце. Сейчас будет латынь. Он бросил молящий о поддержке взгляд на Кая, который, казалось, вовсе не заметил конца урока – так он был погружен в чтение, затем вытащил из сумки Овидия, в переплете «под мрамор», и отыскал стихи, которые были заданы на сегодня. Нет, теперь уж нечего и думать затвердить эти черные, испещренные карандашными значками и через каждые пять стихов перенумерованные строчки, так безнадежно, темно и загадочно смотрящие на него. Он и смысл-то их едва понимал, – где ж ему было хоть одну из них удержать в памяти, а уж в тех, что были заданы на сегодня, не мог разобрать и трех слов.
– Что значит «deciderant, patula Jovis arbore, glandes?»[140] – в отчаянии обратился он к Адольфу Тотенхаупту, что-то записывавшему в тетрадь. – Чепуха какая-то! Лишь бы сбить человека с толку…
– Как? – переспросил Тотенхаупт, продолжая писать. – «Желуди с дерева Юпитера…» Значит, это дуб… Я, по правде говоря, и сам хорошенько не знаю…
– Подскажи мне, Тотенхаупт, если меня вызовут! – попросил Ганно и отодвинул книгу, затем, хмуро взглянув на первого ученика, кивнувшего ему небрежно и не слишком обнадеживающе, вылез из-за парты.
Ситуация изменилась. Г-н Баллерштедт ушел, и на его месте, стараясь держаться как можно прямее, уже стоял низкорослый, слабенький, худосочный человек с жидкой седой бороденкой и с красной шейкой, торчащей из тесного воротничка; в руках, поросших белокурыми волосами, он держал – тульей вниз – свой цилиндр. Это был учитель Хьюкопп, прозванный школьниками «Пауком». Поскольку в эту перемену была его очередь наблюдать за порядком в коридоре, он решил присмотреть и за тем, что делается в классах.
– Потушить лампы! Поднять шторы! Окна открыть! – произнес он, стараясь по мере сил придать своему голосу повелительный тон, и даже энергично покрутил в воздухе рукой, словно уже поднимал штору. – И всем отправляться вниз, на свежий воздух, без промедления.
Лампы потухли, шторы взвились кверху, блеклый свет залил комнату, в распахнутое окно ворвался холодный, сырой воздух, и пятиклассники стали тесниться к выходу; в классе разрешалось оставаться только первому ученику.
Ганно и Кай, столкнувшись в дверях, вместе спустились по широкой лестнице и пошли к наружной двери через красивый, строгий вестибюль. У Ганно был жалкий вид, а мысли Кая, казалось, витали где-то далеко. Выйдя во двор, они стали прохаживаться среди толпы разновозрастных соучеников, шумно топавших по мокрым красноватым плитам.
Здесь за порядком надзирал моложавый господин с белокурой остроконечной бородкой. Этот весьма щеголеватый старший учитель, некий доктор Гольденер содержал пансион для мальчиков, сыновей богатых дворян-землевладельцев из Голштинии и Мекленбурга. Под влиянием вверенных его заботам юных феодалов он научился следить за своей внешностью и тем самым резко отличался от других учителей. Г-н Гольденер носил пестрые шелковые галстуки, кургузые сюртучки и необыкновенно нежных тонов панталоны со штрипками; от его носовых платков с цветной каемочкой всегда пахло духами. Он происходил из бедной семьи, и все это щегольство совсем не шло к нему; так, например, его огромные ноги в остроносых башмаках на пуговицах производили просто смешное впечатление. По непонятным причинам, он очень кичился своими красными ручищами, непрестанно потирал их, сплетал пальцы обеих рук и любовно их рассматривал. У него была привычка слегка склонять набок голову и, сощурившись, сморщив нос и полуоткрыв рот, всматриваться в лица мальчиков с таким выражением, словно он хотел сказать: «Ну, что вы там опять набедокурили?..» Тем не менее у него хватало такта не обращать внимания на всякие мелкие отступления от школьных правил, случавшиеся здесь, на дворе. Он смотрел сквозь пальцы, когда мальчики приносили с собой учебники, чтобы в последнюю минуту подзубрить заданный урок, или когда его пансионеры давали денег смотрителю г-ну Шлемилю на покупку сдобных булочек; старался не замечать, когда борьба между двумя третьеклассниками переходила в драку и драчунов тут же кольцом обступали любители потасовок; благоразумно отворачивался, когда кого-нибудь из мальчиков, совершившего нетоварищеский, бесчестный или трусливый поступок, одноклассники тащили к водопроводной колонке, чтобы для пущего посрамления публично окатить его водой.
В общем это был неплохой, хотя и несколько необузданный и очень шумный народец, среди которого сейчас прогуливались Кай и Ганно.
С молоком матери впитавшие в себя воинственный и победоносный дух помолодевшей родины, эти мальчики превыше всего ставили грубоватую мужественность. Они говорили между собой на жаргоне, одновременно неряшливом и задорном, обильно уснащенном словечками собственного изобретения. Уважением у них пользовались те из товарищей, которые курили, выпивали, отличались физической силой и умением проделывать сложные гимнастические упражнения; величайшим позором почитались франтовство и изнеженность. Тому, кто осмеливался поднять воротник своего пальто, было обеспечено холодное «обливание», а дерзнувший прогуляться по улицам с тросточкой в руках на следующий же день подвергался в гимнастическом зале расправе, столь же постыдной, сколь и жестокой.
Слова, которыми обменивались Кай и Ганно, странно и необычно звучали в шуме голосов, наполнявших холодный, сырой воздух. Их дружба была уже давно известна всей школе. Учителя терпели ее с неудовольствием, подозревая, что за ней кроется непорядок, оппозиция, а товарищи, не способные разгадать ее сущность, посматривали на обоих друзей с недоумением и насмешкой, чуждались этих чудаков, но в их отношения не вмешивались. Кроме того, Кай Мельн внушал им уважение своей дикостью и необузданным свободолюбием. Что же касается Ганно Будденброка, то даже длинный Хейнрице, раздававший колотушки направо и налево, не решался «задать ему трепку за трусость и изнеженность» из-за какого-то бессознательного страха, который ему внушали шелковистые волосы, хрупкое телосложение, а главное, хмурый, настороженный и холодный взгляд Ганно.
– Мне страшно, – сказал Ганно Каю; он остановился в углу двора и зябко подтянул кушак на своей куртке, – отчего, я и сам не знаю, но так страшно, что у меня все тело болит. Ну что такого устрашающего в господине Мантельзаке? Скажи, пожалуйста… Ох, если бы уж прошел урок с этим злосчастным Овидием! Если б уж я получил дурной балл и остался на второй год, ей-богу все было бы в порядке! Я не этого боюсь, я боюсь шума, крика, который поднимется…
Кай стоял в задумчивости.
– Такого, как Родерик Эшер[141], второго не выдумаешь! – вдруг сказал он без всякой связи с предыдущим разговором. – Я весь урок не мог оторваться… Ах, если бы мне когда-нибудь удалось написать не хуже!