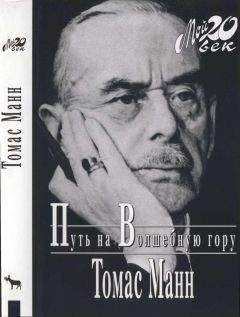Доктор Мантельзак стоял, скрестив ноги, и листал в своей записной книжке. Ганно Будденброк сидел согнувшись и ломал руки под партой. Б! Теперь на очереди буква Б! Сейчас будет названа его фамилия! Он встанет, не сможет сказать ни строчки… и поднимется шум, скандал, произойдет ужасная катастрофа, несмотря на очевидно хорошее настроение классного наставника. Проходили мучительные секунды. «Будденброк… сейчас он скажет: Будденброк…»
– Эдгар! – произнес доктор Мантельзак, закрыл книжку, держа в ней указательный палец, и уселся с видом, говорящим, что вот теперь все в порядке.
Что? Что это было? Эдгар!.. Эдгаром звали толстого Людерса, вон там у окна, а буква «Л» уж никак не могла быть на очереди! Неужели это возможно! Или доктор Мантельзак так хорошо настроен, что он попросту вызывает любимчика, позабыв о тех, кому сегодня надлежит отвечать?
Толстый Людерс встал. Он был очень похож на мопса с сонными карими глазами. Хотя место у него было весьма удобное, чтобы читать по книге, но он и для этого был слишком неповоротлив. Привыкнув к райской жизни и чувствуя себя слишком уж уверенно, он просто заявил:
– У меня вчера голова болела, и я не приготовил урока.
– Ах, ты обманываешь мои ожидания, Эдгар, – печально проговорил доктор Мантельзак. – Ты не хочешь прочитать мне стихи о Золотом веке? Жаль, очень жаль, друг мой! У тебя голова болела? Но, по-моему, об этом следовало заявить в начале урока, до того, как я тебя вызвал. На днях у тебя ведь тоже болела голова? Против головных болей надо принять какие-нибудь меры, а не то ты отстанешь от класса. В таком случае отвечайте вы, Тимм.
Людерс сел на место. В это мгновенье все его ненавидели. Настроение классного наставника явно упало; похоже, что в следующий раз Людерс будет вызван уже по фамилии… С одной из задних скамеек поднялся Тимм, белокурый юнец с короткими толстыми руками, одетый в светло-коричневую куртку, по виду сельский житель. Раскрытый рот его напоминал воронку, на глуповатом лице было написано усердие; он торопливо придвинул открытую книгу и стал напряженно смотреть перед собой. Затем склонил голову набок и начал читать, растягивая слова, с запинками, монотонно, как дети читают букварь:
– Aurea prima sata est aetas…[143]
Несомненно, что доктор Мантельзак вызывает сегодня не по алфавиту и нисколько не считаясь с тем, давно или недавно был спрошен ученик. Теперь уж вовсе не так обязательно, что будет вызван Ганно, разве только судьба пожелает сыграть с ним злую шутку. Он обменялся с Каем радостным взглядом, потихоньку расправил онемевшие члены, стал успокаиваться.
Но Тимм внезапно умолк. Может быть, г-н Мантельзак плохо слышал его, а может быть, просто захотел размять ноги, – во всяком случае он сошел с кафедры, спокойно, неторопливо зашагал по классу и, с томиком Овидия в руке, остановился подле Тимма, который быстрым, незаметным движением отодвинул от себя книгу и… оказался в состоянии полнейшей беспомощности. Он тяжело задышал своим похожим на воронку ртом, уставился на классного наставника голубыми, честными, растерянными глазами и больше уже не мог выдавить из себя ни единого слова.
– Что, Тимм, – сказал доктор Мантельзак, – дальше не идет, а?
Тимм схватился за голову, выкатил глаза, задышал еще чаще и, наконец, с виноватой улыбкой произнес:
– Я очень смущаюсь, когда вы стоите рядом со мной, господин доктор.
Польщенный доктор Мантельзак тоже улыбнулся, сказал:
– Ну, ну, соберитесь с духом и продолжайте, – и направился к кафедре.
Тимм «собрался с духом»: он снова придвинул к себе книгу, раскрыл ее, стремясь овладеть собой, поглядел сначала в одну, потом в другую сторону, затем опустил голову и стал спокойно читать дальше.
– Что ж, я вполне удовлетворен, – заявил классный наставник, когда он кончил. – Вы, несомненно, хорошо подготовились. Только у вас, к сожалению, совершенно отсутствует чувство ритма, Тимм. Слияние смежных гласных вы усвоили, но разве так читают гекзаметр! У меня создалось впечатление, что вы все затвердили наизусть, как прозу… Но во всяком случае вы выказали прилежание, сделали то, что было в ваших силах, а «кто жил, трудясь, стремясь весь век…»[144] Садитесь!
Тимм, гордый и сияющий, сел на место, а доктор Мантельзак поставил против его фамилии удовлетворительную отметку. И самое примечательное, что в эти минуты не только учитель и все одноклассники, но даже сам Тимм были искренне уверены, что он и вправду примерный ученик, по заслугам получивший хорошую отметку. Даже Ганно Будденброк не в силах был противостоять этому впечатлению, хотя и ощущал какой-то внутренний протест. Он опять стал напряженно прислушиваться: какая сейчас будет названа фамилия?
– Мумме! – вызвал доктор Мантельзак. – Еще раз «Aurea prima…»
Итак, значит Мумме! Слава тебе, господи! Теперь уж он, Ганно, надо думать, в безопасности! В третий раз господин Мантельзак вряд ли спросит стихи, а что касается нового задания, то буква «Б» прошла совсем недавно…
Мумме встал. Это был долговязый бледный юноша с дрожащими руками, в очках с огромными круглыми стеклами. У него часто болели глаза, и вдобавок он был так близорук, что стоя не мог читать по лежащей на парте книге. Ему волей-неволей приходилось учить уроки, и он их учил. Но так как он был исключительно бездарен и к тому же полагал, что его сегодня не вызовут, то не знал почти ничего и после первых же слов замолк. Доктор Мантельзак подсказал ему раз, подсказал второй – более резким голосом и, наконец, третий – уже очень раздраженным тоном; когда же Мумме окончательно сбился, доктором овладел непритворный гнев.
– Никуда не годится, Мумме, садитесь! Вы являете собой весьма печальное зрелище, можете в этом не сомневаться, кретин несчастный! Глупость плюс лень – это уже, знаете ли, многовато…
Мумме весь сжался. Он выглядел воплощенным несчастьем, и в этот момент не было ни одного человека в классе, кто бы не презирал его. В Ганно Будденброке поднялась и сдавила ему горло волна отвращения, нечто вроде позыва к рвоте. Но в то же время он с ужасающей ясностью видел все, что происходило. Размашисто начертив роковой знак против фамилии Мумме, учитель насупил брови и открыл свою записную книжку. Со зла он, конечно, перейдет к вызовам по алфавиту и сейчас смотрит, кто на очереди! Не успел Ганно проникнуться этим горестным сознанием, как, словно в кошмарном сне, уже услышал свою фамилию.
– Будденброк!
Доктор Мантельзак выговорил «Буддэнброк», это слово еще звучало в воздухе, и тем не менее Ганно не поверил. В ушах у него зазвенело. Он продолжал сидеть.
– Господин Будденброк! – повторил доктор Мантельзак, глядя на него синими навыкате глазами, поблескивавшими за стеклами очков. – Не будете ли вы так добры?
Ну, так! Значит, чему быть, того не миновать. Вышло по-другому, чем он думал. Но все равно – это конец! Он уже не волновался больше. Интересно только, сильный ли поднимется крик? Ганно встал, намереваясь привести какое-нибудь смехотворное и вздорное оправдание: сказать, например, что он попросту «позабыл» выучить стихи… как вдруг заметил, что сидящий впереди Ганс Герман Килиан держит перед ним раскрытую книгу.
Килиан был низкорослый, широкоплечий шатен с жирными волосами. Он хотел быть офицером и до такой степени высоко ставил понятие товарищества, что не считал возможным покинуть в беде даже Ганно Будденброка, которого терпеть не мог. Более того, он ткнул пальцем в строчку, с которой следовало начинать.
Последовав взглядом за его пальцем, Ганно начал читать. Нахмурив брови и скривив губы, он читал о Золотом веке, когда право и справедливость по доброй воле соблюдались людьми, не ведавшими ни мщения, ни предписаний закона… «Не было тогда ни кары, ни страха, – читал он по-латыни, – на медных досках не стояли начертанными грозные слова, и молящая толпа не трепетала перед ликом судии…»[145] Он читал с измученным, брезгливым выражением лица, нарочито плохо и бессвязно, преднамеренно опуская многие слияния, обозначенные карандашом в книге Килиана, ставил неправильные ударения, запинался, делая вид, что с трудом припоминает стихи, все время ожидая, что классный наставник обнаружит обман и обрушится на него. Преступное наслаждение – держать перед собой открытую книгу – вызывало у него зуд во всем теле, он был полон отвращения к тому, что делал, и старался обманывать как можно более неумело, чтобы хоть этим умалить низость своего поступка. Наконец он замолчал, и в классе воцарилась такая тишина, что Ганно не решался и глаз поднять. В этой тишине было что-то зловещее: Ганно не сомневался, что доктор Мантельзак все видел, у него даже губы побелели от страха. Наконец учитель вздохнул и объявил:
– О Будденброк, si tacuisses[146]. Уж простите меня на этот раз за классическое «ты»… Знаете ли, что вы сделали? Вы втоптали в прах красоту, вы повели себя, как вандал, как варвар, у вас нет ни капли художественного чутья, Будденброк, это написано на вашей физиономии. Спрашивая себя, кашляли вы все это время или читали прекраснейшие стихи, я вынужден остановиться на первом предположении. Тимму очень и очень недостает чувства ритма, но по сравнению с вами он гений, рапсод… Садитесь, несчастный вы человек! Вы выучили урок, безусловно выучили. Я не вправе поставить вам дурную отметку – вы старались по мере сил… Послушайте! Говорят, что у вас музыкальные способности, что вы играете на рояле? Может ли это быть?.. Ну, ладно, садитесь! Хорошо уж и то, что вы проявили прилежание.