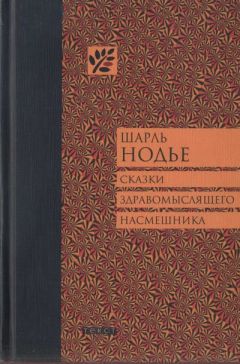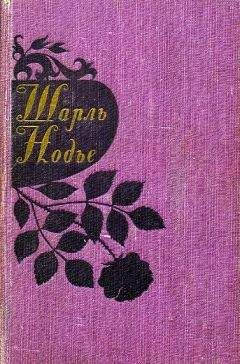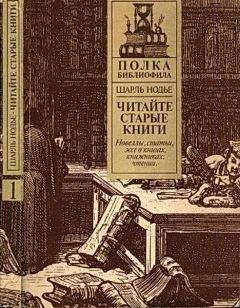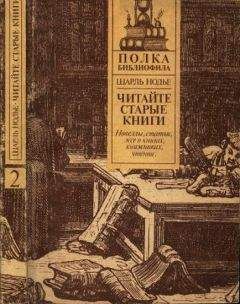— А также, черт подери, чтобы их говорить и печатать, — продолжал Манифафа. — Все это, надо полагать, заставило миссионеров призадуматься?
— Что вы, что вы, Государь! Миссионеры вообще не имели такой привычки. Был у нас один китаец, такой крохотный, что вы бы спокойно могли пропустить его сквозь игольное ушко, а познания у него были под стать росту, так вот, этот мужлан доказывал нам с пеной у рта, что совершенного человека изготовил около четырех тысячелетий назад Зеротоктро-Шах, судьба которого, впрочем, науке неизвестна, не говоря уже о судьбе его изделия[81].
— Тут я тебе не помощник. Откуда вообще взялась тварь с таким именем?
— Зеротоктро-Шах, о божественный Манифафа, представлял собой, si res parvas licet componere magnis[82], довольно нелепую помесь манифафы и придурка; жил он во время царя Гистапса и покинул родную Мидию ради того, чтобы просветить Бактриану. Помимо «Зенд-Авесты»[83] и кое-каких других книжонок, он, говорят, сотворил рецепт, по которому любой недоумок мог состряпать то великое детище совершенствования, которое именуется совершенным человеком, — но увы, при перевозке багажа сей бесценный рецепт утонул в чернильнице, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Посему нашей миссии не оставалось ничего другого, как понадеяться на память народную и снарядить за государственный счет экспедицию на место происшествия; без сомнения, наше великое предприятие увенчалось бы успехом, не помешай нам одно чрезвычайно досадное обстоятельство. Дело в том, что между двумя нашими заседаниями Бактриана провалилась под землю, а с нею и память о Зеротоктро-Шахе и его рецепте.
— Прощай, совершенный человек и совершенствование. Воображаю, какой бледный вид имела всемирная миссия.
— Я уже имел честь докладывать Вашему божественному Султанскому Высочеству, что безупречная миссия никогда не меняла своих решений. Итак, экспедиция из дюжины человек, в числе которых был и я, двинулась в путь, исполненная решимости отыскать Бактриану, пусть даже для этого пришлось бы добраться до центра Земли, куда Бактриана, по всей вероятности, опустилась во время этой чудовищной суматохи, повинуясь закону тяготения.
— Ты открываешь мне глаза, мудрый балагур. Экспедиция направилась к артезианскому колодцу?
— Безграничная проницательность Вашего неизменного августейшего Величества ослепительно гениальна, но мы не были так чудесно проницательны. Мы решили, что, прежде чем осмотреть внутренность Земли, исследуем целиком ее поверхность.
— Превосходно! Итак, вы, подобно простым смертным, уселись в дилижанс. Миссия на большой дороге!
— Как можно, Государь! С тех пор как были построены железные дороги, это каралось смертью[84].
— Ах да, конечно. Продолжай же, ибо вот уже четверть часа, как я мыслю столь напряженно, что забыл и думать о сне.
— Итак, мы взошли на борт парохода «Прогрессивный» — то был, клянусь честью, прелестный корабль с тремя трубами и сильнейшим давлением в трех котлах; он поспешал так быстро, что если бы мой друг Жаль захотел произвести замеры, то, пожалуй, не успел бы даже взяться за лаг[85]. Мы проплыли, если верить кочегару, около ста восьмидесяти лье, после чего были вынуждены, за неимением другого горючего, бросить в топку мебель, инструменты, личные вещи и даже гидрографические карты, научные труды и дипломы.
— С этого надо было начать, — сказал Манифафа.
— В топке разгорелся ясный и яркий огонь, радовавший наши сердца, тем более что главный механик утверждал, будто в свою ахроматическую подзорную трубу уже различает землю (лучше бы этот негодяй приглядывал за предохранительными клапанами!), — и вот этим-то моментом и воспользовались, словно сговорившись, три котла, о которых я имел честь вам докладывать; они взорвались все разом.
— Если не брать в расчет тряску, на которую неровный и капризный ход парового корабля обрекает его пассажиров, в чем я и сам не раз имел случай убедиться, — сказал Манифафа, — надо признаться, Вздорике, что такой способ мореплавания обличает бездну ума в его изобретателе, не говоря уже об удовольствии, которое он сулит тем, кто находится на борту.
— Если они приходят в себя, Ваше Высочество. Нас стремительно швырнуло вверх на неизмеримую высоту, которую я бы, конечно, измерил, когда бы в открытом море не ощущалась столь острая нехватка измерительных приборов; впрочем, спускаясь по параболе, подобно всякому метательному снаряду, мы довольно скоро заметили, что движемся в сторону суши; это было очень кстати, ибо в противном случае нам бы нипочем не избежать гибели. Никогда еще взорам изумленного путешественника не открывался уголок столь прелестный. По сравнению с ним остров Калипсо, о котором вам, возможно, доводилось слышать, был всего-навсего жалкой грудой камней, недостойной занимать воображение поэтов. По мере того как мы приближались к земле, перед нашими глазами разворачивался — и это вовсе не фигура речи, ибо падали мы головой вниз, — райский ковер, усыпанный цветами и плодами. Куда ни глянь, всюду радовали взор золотистые апельсины, клонящиеся книзу бананы, пурпурные виноградные лозы, нежно обвивавшие ветви тутовых деревьев и вязов; пленяли взор вишневые деревья, сплошь покрытые рубиновыми ягодами, которые томно покачивались на гибких ветвях, ласкаемые зефирами; ублажали взор лавровые деревья с ягодами черными как смоль, и акации, чьи душистые подвески смешивали свой пьянящий аромат с благоуханием фиалок, гвоздик, гелиотропов и тубероз, которые, словно изысканная вышивка, украшали свежую зелень лугов, орошаемых хрустально-серебристыми ручьями[86]. Что же касается роз, они в этих краях были редкостью, и потому их мы в первое мгновение не обнаружили.
— Удивительно, как вы обнаружили все остальное, — сказал Манифафа, — впрочем, я полагаю, что, сколько бы ты ни лавировал, рано или поздно тебе пришлось приземлиться. Другого выхода у тебя не было.
— Я падал с ветки на ветку, божественный Манифафа, точь-в-точь как Кристоф Морен в поисках сорочьего гнезда[87]. Первым делом мы устроили перекличку. Из восьмисот человек, составлявших экипаж, в живых осталось только шестеро, но волею Провидения, в своей неизреченной мудрости неизменно пекущегося о прогрессе человечества, все шестеро принадлежали к числу тех, кто составлял цвет нашей всемирной миссии.
— Я не раз слышал, друг балагур, что люди вроде тебя выходят целыми и невредимыми из любой передряги. Но сделай одолжение, скажи мне, сохранило ли мудрое Провидение, о котором ты толкуешь, маленького китайца?
— Маленький китаец окончил свой жизненный путь, Ваше Султанское Высочество, а поскольку от природы он был минимально мал, можно с большой вероятностью предположить, что он возвратился, в виде неосязаемых атомов, в вечное лоно творения.
— Тем лучше! — вскричал Манифафа. — Ведь это по его милости ты пустился в своем бесконечном рассказе на поиски Зеротоктро-Шаха, и я чувствую, что вовек ему этого не прощу.
— Мы были слегка помяты: чего еще ожидать от людей, упавших с огромной высоты без всякой подготовки; тем большую радость испытали мы, оказавшись в кругу счастливых поселян, плясавших под тенистыми сводами здешних рощ. Мы поспешили с истинно пастушеским простодушием присоединиться к их невинным играм, и вы легко поймете, что веселость наша возросла еще больше, когда мы узнали, что причиной сельского празднества является скорое отплытие воздушного шара, на котором мы в самое короткое время могли попасть в самые отдаленные края.
— Известно ли было вам, ученым людям, и в первую голову тебе, ученому балагуру, куда именно вы попадете на этом воздушном шаре?
— Не все ли равно, Государь, куда попадут на воздушном шаре люди, которые не ведают, куда хотят попасть? Этой дорогой идут ученые, империи и весь мир.
— Тогда вперед и вверх, Вздорике! Ступай, сын мой, ступай, балагур, лети туда, куда стремит тебя сам дьявол! Но неуправляемый аэростат — это ведь просто-напросто детская игрушка, годная разве что для развлечения королей, старых женщин и академиков.
— Какие пустяки! Своим на редкость проницательным умом вы, с каждой минутой все более изумительный Манифафа, то и дело предугадываете открытия, до которых с таким трудом доходила наша древняя цивилизация! Управление воздушными шарами не составляло никакой трудности с тех пор, как в воздухоплавании стали использовать пар, ведь воздушные течения куда слабее морских. Итак, исполненные решимости, мы поднялись на борт парошара «Надежнейший», крупного судна, вооруженного по последнему слову техники для борьбы с бесчисленными воздушными пиратами, которые уже несколько лет свирепствовали в тех краях, куда нам предстояло плыть, и наносили, несмотря на все усилия таможни и жандармерии, огромный ущерб атмосферической торговле. В нашем распоряжении были две дюжины отличных сиамских пушек[88] длиной по пятьдесят два фута каждая и в придачу к ним сто восемьдесят два фунта пуль, в мгновение ока преодолевавших расстояние в семь лье, а из живой силы имелось у нас не менее шести тысяч превосходных солдат всех родов войск, не считая кавалеристов и саперов, которых не было вовсе, а также гребцов и каторжников, которых захватили с собой на случай абордажа и которые уцепились за абордажные крюки; в таком составе мы вышли в открытое небо тихо и спокойно, провожаемые приветственными возгласами местных жителей.