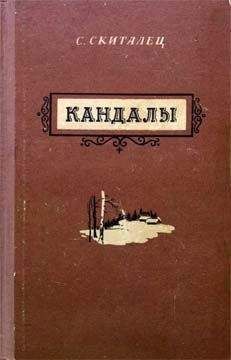— У парнишки твоего абсолютный слух оказался! Дай-ка я позаймусь с ним! Да, вот еще что: ребятишек нужно на сцену! Идет «Русская свадьба»! Отпусти-ка со мной Вукола: полтинник на пряники или на книжки получит, да пускай оркестр слушает. Как знать? Может, это хлеб будет для него после.
Вукол не имел никакого понятия о театре и пошел туда главным образом из-за возможности заработать полтинник.
Театром оказалось старое, странного вида здание. Попал туда вместе с музыкантом с черного хода и очутился за кулисами. Там была сутолока, теснота, шум и ругань.
Сцена, которую видно было между кулис, изображала внутренность очень странной комнаты с еще более странными людьми: бояре и боярыни в ярких крестьянского покроя костюмах разговаривали неестественно громко, а из подпольной конуры кто-то им подсказывал громким шепотом.
Вукол с жадностью смотрел на все это из-за кулис в ожидании, что будет дальше. Его вместе с другими ребятами одели в цветную косоворотку с пояском, шаровары и желтые сапоги, заячьей мягкой лапкой помазали и напудрили щеки и всех приготовили к выходу.
На сцене было шумно: бояре пили из пустых деревянных золоченых ковшей, полосатый шут в желтом колпаке с бубенцами играл на балалайке без струн, а на самом деле играли на скрипках в оркестре, потом на сцену в отворившуюся дверь вытолкнули ребят и Вукола вместе с ними. Все они сели на пол вдоль холщовой стенки, которая заколебалась, когда Вукол попробовал к ней прислониться спиной, крепко держа в руках свою собственную шапку.
Прямо против сцены чернела громадная темная яма, наполненная зрителями. Вукол очень сконфузился, чувствуя себя неловко перед таким большим стечением людей.
Яркий свет множества ламп, бросавших свой свет только на сцену, ослепил его. Сердце тревожно билось от волнения, руки и ноги похолодели.
Ничего нельзя было понять из того, о чем бояре кричали и пели под музыку оркестра, водившего своими смычками в низкой яме, над которой, сидя на высоком стуле, бесновался, размахивая маленькой палочкой, беспокойный человек в хвостатом костюме. Неизвестно было, зачем выпускали на сцену детей в особом наряде, и, когда пришло время уходить, Вукол так заторопился, что забыл на полу шапку, но оставшаяся на сцене старуха в нарядном сарафане бросила ее за кулисы, сказав: «возьмите шапку», хотя подпольный человек, выглядывавший из конуры, не подсказывал ей этих слов.
Домой Вукол воротился вместе с музыкантом поздно ночью, когда в светелке все спали, кроме его матери, терпеливо дожидавшейся возвращения маленького артиста.
После этого случая Вукола звали в театр выходить на сцену в разных представлениях, и вскоре он стал своим человеком: все актеры и актрисы знали его.
Переодетый и загримированный, он участвовал в театральных процессиях, был то пажом королевы, то прыгал в числе маленьких чертенят или ангелов с белыми крыльями.
Выходить на сцену было всегда неприятно, но зато в свободные минуты ожидания своего выхода он полюбил смотреть и слушать из-за кулис происходящее на сцене.
В течение зимы Вукол перевидал множество разнообразных представлений — смешных, грустных и страшных.
Пьеса «Князь Серебряный» показалась сказкой в лицах. «Тридцать лет, или Жизнь игрока» волновала. Но вот поставили «Ревизора», и Вукол до слез смеялся вместе с публикой театра. Смотря из-за кулис на обиженного неблагородными детьми безумного отца — короля Лира, — плакал от жалости. Казнь «Марии Стюарт» потрясала. На «Ричарде Третьем» кровь застывала в жилах от ужаса.
В театре изображалась человеческая жизнь — несчастия, страдания, ссоры, слезы, преступления, убийства и самоубийства. Даже в водевилях комические актрисы играли барынь, падающих в обморок из-за чистых пустяков.
— Не люблю я актрис! — искренно говорила мать Вукола. — Чуть что сейчас хлоп в обморок, и готово! А вот у нас в деревне и слыхом не слыхать про обмороки! Видно, только актрисы и падают в обморок-то!
Отец улыбался, слушая ее.
Все, что представлялось в театре, было интересно, часто печально, иногда — страшно или смешно и глупо, но казалось выдуманным.
На задворках города, где обитали бедные, трудящиеся люди, никто никогда не падал в обморок, а если плакали, страдали и умирали, то по-настоящему, без монологов и совсем некрасиво.
* * *
Обучаясь у музыканта игре на скрипке, Вукол ежедневно приносил из дому в мастерскую обед отцу; дожидаясь, пока он поест, гулял по огромной, похожей на сарай, мастерской, где работала масса народу в холщовых фартуках с нагрудниками, стоял визг пил, стук топоров и молотков, долот и стамесок. Люди строгали, пилили, работали за верстаками и токарными станками.
Елизар был в таком же фартуке, как и все. Сквозь шум работы, смешиваясь с ним, под высоким потолком огромного здания плавали громкие человеческие голоса.
Елизар возвращался с работы только вечером, усталый, с давно затвердевшими мозолями на руках.
За чаем говорил жене:
— Работа строгая, трудная, всю силу выматывает, а, между прочим, платят дешево. Хочу еще сдельно по праздникам работать!
— Да ведь тогда еще труднее будет! — возражала Маша.
— Ну что ж! Силы покуда хватает! Надо детей растить!
Трехлетний Вовка завладел всем вниманием матери. Мнил о себе чрезвычайно, вследствие того что у него на лбу была золотуха. Вукол, вечно погруженный в чтение и рисование, выглядел старшим в доме.
Елизар часто говорил:
— Сам я образования не получил — хочу, чтобы дети учились! Для детей надо жить! Не хочу, чтобы дети малограмотными были. Вукол, вон, читать, рисовать и на скрипке играть до страсти любит! В школу бы пора его пристроить — восемь лет парнишке! Но средства нужны! Что мне праздники? Пустые дни! Не в кабак же ходить семейному человеку, как все у нас ходят! Дикий еще и темный наш рабочий народ! Даже таких, как я, немного: на всем заводе — один-два да и обчелся! Остальные все — как праздник, так пить, а потом все босые да рваные ходят, впроголодь живут!
Елизар стал уходить в мастерскую на весь день по праздникам. Это вызвало неудовольствие и осуждение товарищей: работа по праздникам считалась грехом и признаком безбожия. Крещеный человек еще мог не ходить в церковь, но в кабак — обязательно. В кабаке было единственное общение рабочих: там дружились, ссорились и дрались, потом мирились.
Были у Елизара доброжелатели из пожилых и тех, кто потрезвее, но таких было мало: пьянство по праздникам большинство считало религиозной обязанностью.
Дико и отчужденно относились к Елизару, ученому рабочему, не соблюдавшему постов, не ходившему ни в церковь, ни в кабак, отличавшемуся от своих товарищей цветистым языком, в котором наряду с пословицами встречались иностранные слова, упоминались имена ученых, писателей и поэтов.
Про Елизара говорили, что он безбожник и наверное какой-нибудь хлыст или молоканин.
Однажды в воскресенье он по обыкновению работал в мастерской — фуговал доски для модели. Мастерская пустовала. Были только сторож и двое пожилых рабочих, случайно зашедших за каким-то делом.
Вдруг в мастерскую ввалился пьяный столяр Андрей Масленников, из компании, свято соблюдавшей обычай воскресного пьянства, человек лет тридцати, с небольшой белокурой бородой.
Слегка пошатываясь и рисуясь своим опьянением, он подошел к Елизару и как бы нечаянно толкнул его плечом. Тот отстранил его левой рукой, не переставая фуговать правой.
— Не мешай, Андрей! — сказал он спокойно. — Выпил на четвертак, а ломаешься на семь гривен!
— А вот и буду мешать! ты знашь, зачем я пришел?
— Не знаю! — Елизар хмурился, продолжая работать.
— Не знашь? Ну, так я скажу, зачем: мешать пришел! Снять тебя с работы! Артель меня послала! Ты пошто не ходишь с нами, рыло от артели воротишь? Я-ста ученай! такой, сякой, немазаный, сухой, в Петербурхе работал! А за што ты в Сибири был? Нам все известно! Молоканин ты, в бога не веришь, в праздник в одиночку работаешь! Ну, мы эфтого не допустим! Артель на тебя в обиде, Елизар! Наши все сейчас в трахтире сидят и об тебе речь ведут!
Пьяный угрожающе двинулся на Елизара и протянул руку, чтобы остановить фуганок.
Елизар снова отвел его руку.
— Не мешай, говорю; гуляешь, так ступай отсюда, гуляй!
— Где это видано, — повысил тон Андрей, сам себя стараясь раздражить, — где слыхано, чтобы рабочий человек супротив артели шел? Артель говорит мне: «Ступай, Андрей, ты потрезвее других, дай ему в морду, чтобы кровью умылся!» — Андрей угрожающе сжал кулаки. — Мы те зададим, как артель не почитать! Мы те так вздуем — до новых веников не забудешь, будешь помнить!
Он схватил Елизара за засученный рукав, обнажавший необыкновенно мускулистую руку, пьяной, но тоже крепкой и сильной рукой.
— Айда в трахтир, ставь артели угощенье! проси у нас прощенья!