Гажи быстро догадался, в чем тут дело. А дело было в том, что Паприкаш оказался зайчихой и был как раз невестой на выданье. Появляющиеся же с ним косые были, конечно, ухажерами.
Гажи из деликатности не обращал внимания на эти увлечения Паприкаша, как и на другие его проделки.
Однако что факт, то факт: Паприкаш (или уж как его теперь звать: Паприкашиха, что ли?) даже своих ухажеров бросал ради Гажи.
Зато уж и Гажи любил своего Паприкаша так, как еще никого не любило человечье сердце. Ни за что в жизни он с ним не расстался бы. А у него уж просили продать зайца… и всерьез, и ради шутки…
Но к чему растравлять незажившую, кровоточащую рану?
Шлялся где-то Паприкаш, шлялся, да и не вернулся однажды… Что с ним стало, один бог знает…
Горько плакал Гажи по своему Паприкашу… И каждый день молил бога, чтобы вернул он ему своего посланца… Прямо в черную тоску впал Гажи из-за косого…
Но что делать: сгинул Паприкаш бесследно. Как раз за две недели до того дня, когда объездчик встретил на тракте графиню. И когда они совершили то безбожное путешествие на мотоцикле по целине, чтобы посмотреть на Паприкаша.
Вот какие дела!
* * *
— Так у тебя уже нету зайца? Старый ты, проклятый осел! Знал я, что ты его потеряешь тут со стадом! Чтоб тебя черти за это на вертеле жарили! — сердито кричал объездчик, размахивая своей палкой над бедным Гажи.
Дело в том, что к Паприкашу объездчик относился немного как к своей собственности. Ведь как-никак это его пес пригнал зайца к его летней кухне, куда тот, по свидетельству Гажи, таинственным образом проник через закрытую дверь.
— Да разве ж мне не жалко его? Разве я его не искал? Разве не ждал каждый божий день? — вертел Гажи в руках драную свою шапку, стоя перед объездчиком, и крупные слезы капали у него из глаз.
— А… — махнул на него рукой объездчик. — Пойди вот к барыне, расскажи ей, какой это был заяц. А то я вроде как ей все наврал.
Графиня остановилась со своим мотоциклом в сторонке.
Потому что истоптанное, изрытое свиньями пастбище было к тому же все в лужах. Да и вонь от свиней, если нюхать ее вблизи, не всем по вкусу.
Так что объездчик, все еще насупленный, направился вместе с Гажи к графине.
И вот стоят они перед ней. А графиня, будто в каком-то странном экстазе, глядит за их спины, на луг.
Объездчик смущенно откашливается и принимается объяснять барыне: дескать, заяц-то… он у Гажи… того…
Но графиня, не давая ему говорить, показывает куда-то:
— Ах, смотрите!.. Конечно же!.. Как интересно!..
Объездчик оборачивается — и вдруг рот его и глаза широко раскрываются, он стоит как остолбенелый.
Невдалеке от них спокойно, как ни в чем не бывало, скачет по травке, направляясь в их сторону, Паприкаш. Время от времени он останавливается, торчком поднимает уши, опять прижимает их. Садится на задние лапы, умывается. Снова делает пару скачков.
Сразу видно, держится он так не из страха. А из вежливости. Он ведь пришел к Гажи, к хозяину, а тот беседует с посторонними, и воспитанному зайцу в такой ситуации негоже встревать.
Но… смотрите-ка! Это еще что такое?
Ведь Паприкаш не один. Позади него прыгают, резвятся на травке еще четверо-пятеро крохотных, с детский кулак, зайчат.
Господи Иисусе! Да ведь Паприкаш-то семьей обзавелся!
Вот почему он на две недели покинул Гажи! Ему, то есть ей, предстояли материнские радости, и Паприкаш, из стыдливости или из осторожности, не хотел причинять хозяину лишних хлопот. Да и то сказать: где бы Гажи устроил его на это время?… Паприкаш предпочел найти себе какое-то надежное и укромное место, как делают другие зайчихи.
— Так ты вернулся ко мне? — кинулся к Паприкашу Гажи. — И детишек своих мне привел… А я, старый дурень, не верил, что ты меня больше всех любишь, даже больше, чем своих зайчат… О-о, о-о! Ну, иди ближе!.. Тут как раз посмотреть пришли на тебя… Мне уж влетело, что ты пропал!..
Гажи своим намотанным на кнутовище кнутом весело манил Паприкаша и хохотал во весь рот… Захохотал и объездчик… Захохотала следом за ними графиня… Хохотал весь луг, залитый солнечным светом раннего лета…
— Ну давай, покажи ее сиятельству, что умеет твой заяц!
И Гажи с Паприкашем послушно продемонстрировали все свои незамысловатые достижения.
— Поклонись, Паприкаш!.. Та-ак!.. Теперь попляши вприсядку! Хайя-хайя-тра-ла-ла! Хоп-хоп-хоп!..
Объездчик с торжествующим видом обернулся к графине:
— Ну что, может сделать такое зверь, если лукавый в него не вселился? Видели вы такое где-нибудь, ваше сиятельство? Видели?
А графиня и в самом деле забыла, что в ослепительном свете цирковых арен и душных варьете в больших городах она видела сотни куда более поразительных номеров, настоящие чудеса дрессировки, когда звери говорили, считали, отплясывали канкан, катались на велосипеде, курили сигары, играли в карты.
Графиня стояла в сиянии ласкового, но не палящего еще солнца, завороженная совсем иным чудом. В голове у нее всплывали слышанные или читанные в детстве мифы, легенды о святых старцах с незапятнанной, детской душой, к которым без страха приближались лесные звери и которые возглашали слова добра и милосердия птицам небесным… Казалось графине, что она видит сияющий нимб над седыми, редкими волосами старого, блаженно улыбающегося свинаря в лохмотьях.
— Скажите мне, милый дядюшка, чего бы вы хотели?… Чем я могу вам помочь? — спросила вдруг Гажи графиня.
Но Гажи лишь бессмысленно улыбался, глядя ей в глаза.
Потому что уже непривычное обращение это растрогало Гажи… Неловко было ему просить что-нибудь… Все желания, что приходили ему в голову, не простирались дальше десяти крейцеров на табак… Ну, может, двадцати…
Объездчик же, видя беспомощность Гажи, впервые в своей жизни ощутил, как жалость щиплет ему глаза, жалость и сочувствие к ближнему своему, к этому отвергнутому другими людьми нищему старику, которому бог не дал большого ума.
— Ваше сиятельство, — сказал он, повернувшись к графине. — Уж коли я говорю, что этот полоумный лучшей доли заслуживает, стало быть, оно так и есть! Он любое дело делает хорошо, вы мне поверьте, ваше сиятельство, я ведь его с детства знаю. И все равно вперед никогда не вылезет, такой уж он есть, простофиля то есть, все только улыбается и всем доволен. Его бы в имении где пристроить… Заслужил он, чтобы хоть на старости лет получше пожить: вон какая душа в нем, чистая добрая, он даже в звере лесном укротил лукавого…
* * *
Так оно и было дальше! Графиня сама увезла Гажи, вместе с нехитрым его барахлишком, в коляске своего мотоцикла. Паприкаш тоже прыгнул в коляску и сел там в ногах у Гажи. А объездчик кое-как собрал семью Паприкаша, рассыпавшуюся по лугу, и посадил их к матери.
И стал Гажи, по строжайшему наказу графини, одним из графских работников, уважаемым человеком. Служил он при свинарне, делая дело, к которому был приспособлен… И жил долго и счастливо, пока не помер.
Знаю я, такого вот Гажи никогда не считают достойным того, чтобы видеть в нем образец душевного благородства, миролюбия, жертвенности, справедливости, веселого и покладистого характера!.. Хотя я со всей ответственностью могу вас спросить: а почему, собственно говоря, не считают, если у него есть для этого все, что нужно?… Потому я и назвал, в назидание прочим, историю эту легендой…
1936
Енё Йожи Тершанский (1888–1969), выдающийся мастер венгерской прозы, известен у нас сравнительно мало. Может быть, свою роль здесь сыграло одно его качество, а именно органическая несовместимость писателя с любыми привычными рамками, будь то рамки идейно-художественных течений, жанровых форм или даже сугубо человеческих проявлений.
По свидетельствам современников, в своей жизни Тершанский меньше всего походил на писателя. Этот неунывающий, крепкий телом и духом человек, увенчанный литературными премиями, вечно что-то изобретал, мастерил, конструировал, был душою компании, играл на всех мыслимых инструментах (даже выступал в кабаре в роли куплетиста и музыкального клоуна!), дорожа этими своими талантами едва ли не больше, нежели многочисленными романами, рассказами и повестями, которые он писал как бы между прочим.
В начале века, когда в прозе преобладали символика и тонкий интеллектуализм, Тершанский, прибыв из провинции в Будапешт «в поисках заработка и, может быть, мировой славы», заявил о себе рассказами, сюжеты которых словно подсмотрены были в жизни. Причем в жизни людей, до этого и близко не подпускавшихся к порогу венгерский литературы — бродяг, мелких воришек, бедноты, — сущих парий тогдашнего общества. Необычность Тершанского состояла, однако, не в открытии новых героев как таковых (как-никак венгры знали уже и Диккенса, и Золя, и раннего Морица), а в той доверительной, без тени сентиментальности или обличительного пафоса интонации, с которой эти герои заговорили с читателями.
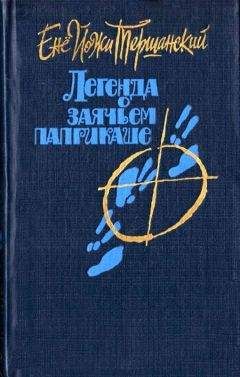


![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
