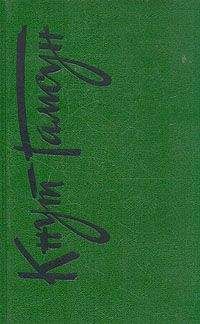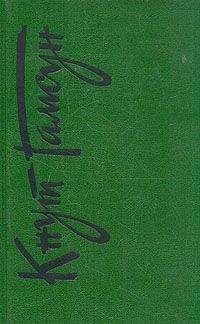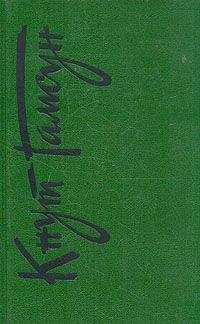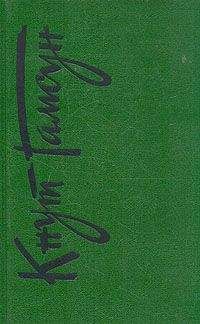Она говорила теперь с тоской, уже не старалась казаться спокойной, она была ужасно расстроена. Обида моя вмиг улетучилась.
— Он выскочил из-за угла, едва ушёл Бенони, поздоровался и говорит: «Старуха-то Малене, а?». Старуха Малене — это мать моего мужа, то есть мать моего первого мужа. «Что с нею?» — спрашиваю я, хотя Бенони с ней — как сын родной, чего только ей не посылает. «А то, — отвечает Гилберт, — что она разбогатела, она получила сто талеров!» — «От кого же она их получила?» — спрашиваю я. «Ни от кого, — отвечает Гилберт, — она сама не знает, они пришли по почте». Тут сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди, и, уж сама не знаю как, я всё-таки выговорила: «А письмо?» — «Письма не было», — ответил Гилберт. Пауза.
— Но ведь это хорошо, что у бедной женщины есть теперь средства, — говорю я, чтобы что-то сказать.
— Да, конечно. Но их могла послать только одна рука.
— Ну, — отвечаю я, стараясь её ободрить. — Может быть, это наследство. Может быть, его сейчас только распределили.
— Вы думаете? — с надеждой спрашивает Роза. — Да, но так бы и было указано, тогда бы было письмо.
— Впрочем, я, признаться, мало смыслю в этих материях. Так или иначе, вы разведены со своим первым мужем.
Роза качает головой и, словно сама с собой, говорит:
— Ах, но что значит — разведена...
— И жив ли он или умер, у вас с ним нет уже ничего общего.
— Неправда. И вдобавок: мне сказали, что он умер. Что он... что он погиб... Иначе я никогда бы не могла снова выйти замуж.
— Хартвигсен и Мак выговорили же для вас разрешение, была, кажется, получена государственная бумага?
— Да, но мне-то мало было этого. Вот они и сказали мне, что он умер.
— Но он ведь и в самом деле умер, — говорю я. Вдруг на меня накатывает жгучая неприязнь к этому мертвецу, о котором так беспокоится Роза. Да если даже он жив, неужто ей не пора, наконец, его выбросить из головы? Я уже ревную её не к Хартвигсену, а к покойнику, я желаю моему другу Хартвигсену всяческих благ! Да и кто он такой, этот господин? Продал жену за известную сумму, сумму пропил и умер!
— Вот вы меня называете ребёнком, — сказал я с укором, — а сами вы кто, по-вашему? По мне, носиться с тем, кто... с памятью о том, кто...
Я перевёл дух, она подняла на меня глаза и ждала. Хотела, верно, чтобы я всё ей выложил, и насчёт суммы, и насчёт внезапной смерти. Но раз ей угодно несмотря ни на что хранить верность своему Николаю, я не отвожу глаз и не оканчиваю фразы.
— Ну? — сказала она. — Носиться с памятью о том, кто... Что же вы?
— Тоже отнюдь не означает быть взрослой.
Пауза. Она на меня посмотрела беспомощно.
— Простите меня, — сказал я.
Её словно кто толкнул, она встала вдруг и всю свою нежную, бархатную ладонь прижала к моей щеке.
— Храни вас Господь! — сказала она. — Вы и сами понимаете, верно, что это не то, что влюблённость. Вот, сейчас вы увидите, я буду совершенно спокойна, — сказала она и снова села, — просто я так испугалась, он ужасный, этот Гилберт.
— Я найду управу на этого Гилберта, — крикнул я. — Я кое-что про него знаю. Одно моё слово Маку, и уж тот его урезонит.
— Вот как? — спрашивает Роза. — Но это ничего не изменит. Гилберт всякий раз верно предсказывает.
— Но это — простите! — это ребячество — верить в такое!
— Нет, он верно предсказывает. И сегодня, может статься, он верно предсказал. Бог его знает. Боже ты мой, что же будет с нами со всеми! А я ещё и...
Она снова встала, подняла, заломила руки. Я видел её смятение, и при последних её словах я подумал: она уже два месяца замужем, ей, может быть, вредно так волноваться.
— Успокойтесь же! — сказал я. — Вы ничего дурного не сделали.
Я увидел на дороге Хартвигсена и сделал знак Розе. Роза остановилась передо мною.
— Вы можете меня не просить о соблюдении тайны, — сказал я.
— О, — сказала она. — Не всё ли равно. Я сама ему скажу. Но вас я должна поблагодарить за то, что вы поняли, отчего я ношусь с моими воспоминаниями.
Ничего я такого не понял, опять пошла женская болтовня. Напротив, первый муж должен был умереть для Розы, даже если он жив, вот моё мнение.
— Ну, а сами вы будете умницей, будете охотиться, обойдёте всю округу, — сказала она.
— Да, — только и сказал я.
Вошёл Хартвигсен.
— Добрые вести! — сказал он. — Суда уже в Бергене. Вот придут они сюда, в целости и сохранности, гружённые нашим товаром, и страховые-то — мои.
— От всей души поздравляю! — сказал я, желая Хартвигсену всяческих благ.
Ободрённый моими словами, Хартвигсен прибавляет:
— Выходит, не только мой компаньон Мак соображает, как делать деньги.
Ну вот, и теперь я, в сущности, не знаю, что мне и думать. Роза выставила себя в новом свете после этих её сантиментов по поводу покойного мужа, который ничего иного не стоит, кроме презрения. Я считал её совершенно другим человеком. К тому же она так разоткровенничалась, столько наговорила лишнего, это она-то, всегда такая тонкая, сдержанная. Ведь я ей совсем чужой! Или она преувеличила мои чувства, сочла, что я просто гибну от любви? И она сказала, что я ребёнок. Ребёнок!
Проходит неделя-другая, я жду осени. Как-то баронесса мне говорит:
— Семь лет уже я не замечаю собственного сердца. Уж и не знаю даже, есть ли у меня оно!
И далее она распространяется о том, что сердце её умерло, что в воскресенье она была в церкви и намерена постоянно туда ходить и водить с собой девочек. Опять, значит, в религию ударилась, подумал я.
Я написал Розе несколько слов и сунул письмо в карман. Настал вечер, стемнело, и я отправился к ней с этим письмом.
Но я совсем не подумал, что главное — передать письмо. Стоя перед дверью Розы, я вообразил было, что ничто не мешает мне сунуть его в щель. И даже уж чуть не сунул, но тотчас опомнился и снова спрятал письмо в карман.
Так же глупо вёл я себя и на другой вечер. Я написал новое письмо, а старое сжёг. Что я писал? Глупости, глупости, скоро я начну охотиться, я люблю вас! Ах, я был ребёнок. Я всё сокращал, сокращал, сокращал. На третий вечер я написал просто — Роза! И этого мне показалось совершенно достаточно. Я запечатал письмо, спрятал у себя на груди и лёг спать.
Утром, когда я ещё лежу в постели, в дверь стучат. Баронесса. Она ничего не видит, не слышит, она стоит на пороге, в мантильке и шляпе. Значит, она уже совершила утреннюю прогулку.
— Вы говорили ведь, у вас есть друг? — спрашивает она.
— О... Прошу прощенья, я ещё не... сейчас я встану.
— Не беспокойтесь! Сколько ему лет?
— Моему другу? Он на три года старше меня.
— Напишите, чтоб он приехал. Как его имя?
— Мункен Вендт.
— Напишите ему.
Я с ужасом обнаруживаю, что письмо моё к Розе лежит на полу, я стараюсь поскорей выпроводить баронессу и обещаю написать Мункену Вендту.
— Сию же минуту, — сказал я, — вот только встану.
— А не могли бы вы вскинуть ружьё и выйти ему навстречу? — спросила она.
— Да! Это будет великолепно.
О, ничего, ничего тут не было великолепного, именно сейчас я ни за что не хотел удаляться от этого места, я к нему был как гвоздями прибит. Всего месяц какой-нибудь, и мне было бы легче, кто знает.
Баронесса спрашивает:
— Он студент?
— Да, Мункен Вендт студент.
— Так он может быть учителем Марты. Бенони тоже хочет нанять учителя, — говорит она и слегка кривит рот.
У меня обрывается сердце — Мункен Вендт в доме у Розы! Да он же... он же способен... он шальной, неуёмный, он просто чёрт!
Но разве мог я спорить с баронессой? Письмо моё лежало на полу, и было видно, кому оно адресовано. Но она, кажется, ничего не видела, не слышала, и я расхрабрился.
— Едва ли из Мункена Вендта выйдет учитель. Разрешите, вот я сейчас встану и...
— Я ухожу-ухожу, я сейчас уйду. Вы напишите письмо, Йенс-Детород отнесёт его, он ждёт внизу, он будет идти день и ночь. А потом вы сами отправитесь следом.
— Да, — сказал я.
— Встретите своего друга, приведёте сюда. А там видно будет. Он может у вас погостить.
— Да, спасибо, — сказал я.
Глаза у неё стали осмысленные, словно вдруг воротились издалека, она оглядела комнату.
— А, рисунок Алины! — сказала она, с улыбкой глядя на стену. Меня она по-прежнему не замечала. Наконец она спросила:
— Так вы сегодня и отправитесь?
— Да, тотчас же! — ответил я.
— Тогда до свиданья. Простите!
Она ушла.
Я вскочил и сжёг письмо, оделся и вышел. Было восемь часов. Баронесса ушла со двора. Мне нужно кое-куда зайти, известить, что я ухожу далеко, в леса, на север, но меня останавливает Йенс-Детород и спрашивает про письмо, которое ему велено отнесть. О, от этого сутулого длинноногого существа невозможно отделаться, он исполняет веление своей госпожи. Я вернулся с ним к себе в комнату и написал письмо. Хотел было написать покороче и похолоднее, но — к чему строить кислую мину? От судьбы никуда не денешься, Йенс-Детород, этот раб баронессы, всё равно приведёт сюда Мункена Вендта живым или мёртвым. Он не потерпит отказа точно так же, как не терпит он отказа, выпрашивая кости по чужим дворам.