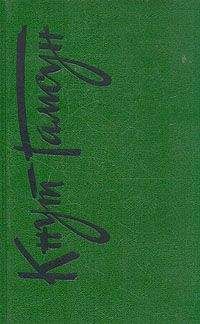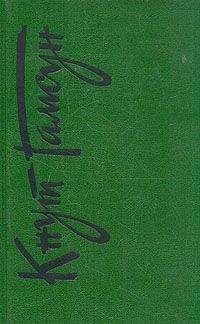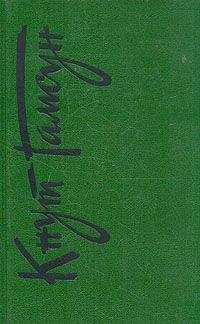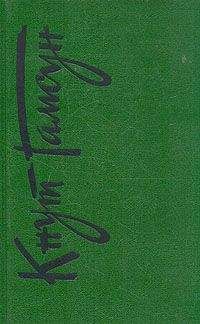— Они всерьёз туда собираются, — говорю я.
— Ну-ну. Этот выскочка не успокоится, покуда не профинтит все свои денежки. А на хлеб что останется? Дорога на Иерусалим? Да их тысяча, этих дорог. Шваль такая — и туда же, в пилигримы? В религию они, что ли, ударились?
И вдруг смотритель кричит:
— Но Роза-то, Роза! О Боже ты мой, она-то что же?
Я впервые об этом подумал и не мог ничего ответить.
Смотритель продолжает говорить, остановится, подумает и говорит снова. В конце концов эта затея уже не представляется ему нелепой.
— А что, глядишь, и отправятся, у нашей Эдварды губа не дура! И отчего бы им не проделать это несчастное путешествие, хоть одним глазком глянуть на мир, увидеть что-то ещё, кроме своего прекрасного Сирилунна! Увидят иные берега, там и солнце светит ярче, там в море летучая рыба. Все расхаживают в шелках, мужчины в красных шапочках, курят сигары. Чем больше я об этом думаю, тем больше прихожу к заключению, что им непременно надо ехать, ехать, освежиться, проветриться, так им и передайте. Ах, вы и представить себе не можете, что такое Греция, молодой человек!
Смотритель Шёнинг совсем забывается и выдаёт свои истинные чувства, а ведь он этого не любит. При воспоминании о дальних странах, в которых он побывал, он загорается, глаза у него сверкают.
— Подумать только! Они туда едут! — говорит он. — И очень умно делают, очень умно! Они увидят Грецию! Путь в Иерусалим, говорите вы? Путь один. На рыбачьей шхуне от Бергена они попадают на Средиземное море, в Грецию. Оттуда уж рукой подать до Яффы11. А там — на арабских конях — в Иерусалим. Так им и передайте. Если угодно, я могу всё это вычертить на бумаге. Ну и Эдварда, ай да Эдварда!
На другой день смотритель Шёнинг является ко мне с маршрутом, да, с подробным планом всего путешествия. Он до того увлёкся, он весь горел.
— Пусть они, не теряя времени, едут на почтовом пароходе в Берген, — сказал он, — там как раз отправляют треску в Средиземное море, пусть уедут на зиму из этой дыры, там их ожидают пальмы, там люди разгуливают в шелках. А вы, кстати, не могли бы их сопровождать в качестве переводчика? Вы английский знаете?
— Нет.
— Ну, да и французский сойдёт.
Я передаю Хартвигсену план смотрителя, даже не заикнувшись о том, что в пути ему понадобится переводчик. С несколькими фразами, в каких у них будет нужда, бесспорно, справится баронесса, говорю я, напротив, да и сам Хартвигсен, с его-то способностями, скоро выучится английскому, нужно только обзавестись в Бергене самоучителем.
Хартвигсен совершенно со мною согласен.
Ночью я иду к дому Розы, я глажу дверную ручку, я присаживаюсь на крыльцо там, где она сидела. Мечты и образы теснятся в моей голове, я сам не свой, я совсем лишился покоя. Я брожу как помешанный день и ночь. Погладив дверную ручку, посидев на крыльце, я тихонько ухожу и даю большого крюку по дороге домой, к моей комнате, где меня стережёт моя бессонница.
Баронесса спрашивает, что со мною, у меня тёмные круги под глазами. Я отвечаю, что это так, ничего, и тру глаза, чтобы стереть эти круги. Тогда она спрашивает, что думаю я о поездке в Иерусалим.
— Но отчего непременно в Иерусалим? — спрашиваю я.
Она объясняет мне, отчего, и она так несчастна, взгляд у неё угасший, как сумерки.
— Да вот, Хартвич придумал ехать в Иерусалим, он о нём начитался в Библии. Я тоже хочу в Иерусалим. Здесь мне никак не найти покоя, а вдруг мне полегчает, когда я вернусь? Святая земля, говорят, да, может быть, и святая, и кто знает, какое влияние она оказывает на человека? Ведь я чего только не испытала, молилась даже чужим богам. Так же точно я и в Финляндии мучилась. Никто не мог меня понять, когда я, хозяйка дома, вдруг бросала гостей. Я возвращалась, и меня спрашивали, не было ли мне дурно, они ведь люди воспитанные. Воспитанные — ну и что, это же свойство целого класса, а мне нужен был кто-нибудь, ни на кого не похожий. Я подошла к одному человеку и спросила: «Вы охотник?». Он не понял меня. «Охотник? О нет». Но у него есть брат, вот он охотник. «Так давайте его сюда!». Но что это был за охотник! Человек, который убивал зайцев и птиц, которого Господь обделил разумом, только и всего. Нет, вы дайте мне кузнеца, бродягу, но чтобы у него жизнь сияла в глазах, вот это охотник!
Я так много записываю из того, что говорит баронесса, потому что ведь я изо дня в день с нею рядом и так много от неё всякого слышу. Но о той, что непрестанно в моих мыслях, я не слышу, я не знаю ничего. В том-то и дело. Да мне и легче, когда я слушаю баронессины речи, я принимаю участие в её горестях, это меня отвлекает от моих собственных, и это хорошо. Баронесса часто спрашивает меня о путешествии и не скрывает, что видит в нём паломничество.
— Мне нужно столько грехов замолить, — говорит она. — Мне очень нужно в Иерусалим. Мне это поможет, как вы думаете?
— Очень возможно. Разумеется, поможет. У вас столько будет новых впечатлений, вы развлечётесь. А за девочками мы тут все приглядим.
— Да, уж вы приглядите за девочками!
Глаза у неё делались больше, туманились, она уже не могла успокоиться, пока не найдёт своих девочек, не подбросит их по очереди на руках. Но когда она призналась, что ей нужно замолить много грехов, я подумал про её мужа, который, верно, всё же из-за неё покончил с собой.
Я иду к Розе и говорю:
— Тут в Иерусалим собираются, путешествие, кажется, состоится, о нём столько говорят.
— Да, я всё это знаю, — отвечает Роза.
Я в удивлении молчу и смотрю на неё, она так спокойно мне ответила, что всё это знает.
— Да, но путешествие, кажется, в самом деле состоится, — говорю я снова. — Смотритель маяка составил план, скоро поздно будет этому воспрепятствовать.
Ах, вчера меня одолела совесть, она и сегодня меня донимает, я уже не радуюсь, что отделаюсь от мужа Розы, нет, меня мучит тоска.
— Зачем же препятствовать? — отвечает Роза. — Вовсе незачем препятствовать.
— Незачем, вот как? — только и могу я выговорить и умолкаю.
— Бенони так хочется ехать, да и я не прочь. Мы так много увидим нового.
— Да-да, — отвечаю я, словно в каком-то тумане. Значит, Роза тоже едет! Чтобы хоть как-то искупить собственную вину, я прибавляю: — Да-да, вы, значит, будете переводчицей...
— Нет, какая из меня переводчица, — отвечает Роза. — Я читаю немного по-французски и по-немецки, но ведь... Эдварда тоже читает, но ведь... Ну, да мы ещё не уехали! — прибавляет она.
Нет, они ещё не уехали.
Я встречаю Хартвигсена и заговариваю о путешествии. Он сразу мне отвечает так, что едут они втроём, будто и речи никогда ни о чём другом не было.
— Значит, Роза будет переводчицей, — говорю я.
— Да, — отвечает он, — вот уж кто по этой части мастак. Послушали б вы её, когда разные записки в бутылках приплывают не по-нашему написанные — она их шпарит, прямо как десять заповедей.
— И Роза, верно, радуется путешествию?
— А почём я знаю? Я ей взял и сказал: ты, ясное дело, тоже поедешь, говорю. Не могу же я ехать в чужие края с другой дамой без тебя, говорю. И Мак того же мнения.
— Разумеется.
— Э, да мы ведь ещё не уехали, — говорит Хартвигсен. — Тут ещё столько делов. То да сё приобрести на зиму для наших судов, и в лавке перед Рождеством такая торговля! За всём глаз да глаз, и не могу же я всё бросить на компаньона.
Я так и не понял, что стало причиной перемены. Но про себя я подумал, что Роза, верно, прибегла к помощи Мака, всегда дарившего её отеческим расположением.
Баронесса тоже была уж не так богобоязненна и печальна, она смеялась больше прежнего и шутя говорила о путешествии.
— И чего Бенони не видел в Иерусалиме? — говорила она, называя Хартвигсена Бенони. — Оставался бы уж тут, первым парнем на деревне, ха-ха-ха!
Но вот смотритель Шёнинг — тот всё больше и больше кипел.
— Поторопите же вы их, — сказал он мне, — они ещё успеют отправиться из Бергена в Средиземное море!
Но один почтовый пароход за другим отправляется — в Берген, а Хартвигсен с компанией и не думают ехать. Значит, из всей затеи ничего не получится. Сам-то я считаю, что не иначе как рука Божия помешала мне вытолкать путешественников и взять на душу тяжкий грех.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ну, а Роза — она, верно, с самого начала чувствовала, что из путешествия ничего не получится, и только ради простого приличия себя зачисляла в участники.
Наконец и до смотрителя доходит, что план составлять было решительно незачем. Он встречает Хартвигсена в лавке и от досады меняется в лице и белеет как мел.
— А-а, вы ещё не уехали в Иерусалим! — говорит он. — Да и я-то хорош, в плане напутал, вам следует направляться вовсе в Балтийское море, а там на Гебриды. Как окажетесь в Довре, спросите, где город Пекин. Туда вам и надо.