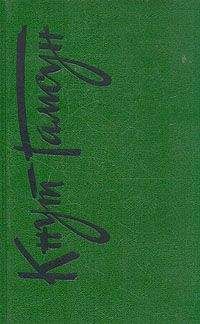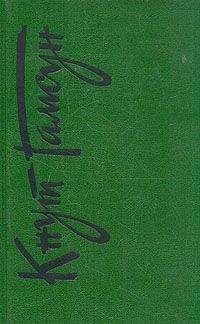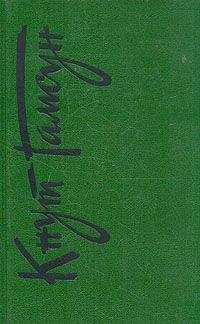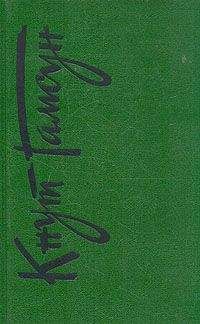Но Хартвигсена, однако, на мякине не проведёшь. Кое-какие начатки географии я преподал ему во время наших весенних уроков, и они засели в нём крепко.
— Пекин же в Китае, — говорит он, — при чём тут Китай? Да и Довре нам не по пути, Довре в Норвегии.
— Вы ослышались. Я сказал, — в Дувре12, — отвечает смотритель и весь трясётся. — В Дувре такая бездна курочек, вот где вам хвост распускать! Хи-хи! Фанфарон! Пустоболт несчастный.
Смотритель, сам не свой от ярости, выбегает из лавки. Значит, этот человек радовался и мечтал за других, мечтал, чтоб хоть кто-то увидел мир во всей его славе. Но и тут его провели! Я заставляю себя несколько успокоиться и засесть за картину, чтобы у меня был предлог пойти к Розе. Едва картина кое-как обсохла, я однажды выжидаю, когда Хартвигсен пройдёт мимо Сирилунна на мельницу, и пускаюсь в путь. И Мак и баронесса знали, кому предназначена картина, так что я мог её нести не таясь. А вот то, что я выбрал момент, когда Хартвигсен отсутствовал, была низость, низость, и я готов был потом за неё расплатиться. Да и сам визит не принёс мне особенной радости.
Роза против обыкновения заперлась изнутри. Я стучу, но дверь мне не отворяют. Никого нет дома, думаю я, Марту я видел с девочками баронессы. Я уже собираюсь уйти, но тут Роза стучит в окно и отворяет дверь.
— Лопарь Гилберт ходит тут и что-то вынюхивает, — сказала она. — Видели вы его?
— Нет.
— Заходите же, заходите. Ах, какая прелестная картина! Жаль вот, Бенони ушёл и её не видит.
— Это вам, — сказал я. — Будьте великодушны, примите её в подарок! Она вам хоть чуточку нравится, да?
Ну как, право, я себя вёл, я робел и совершенно стушевался. Будто я не дар приносил, а принимал подаяние.
— Мне? Нет, что это вы, зачем, — ответила Роза медленно и покачала головой. — Досадно вот, что Бенони нет дома, он бы, разумеется, заплатил за картину.
— Она не продаётся.
Роза из любезности берёт картину и разглядывает, и её руки, которыми я всегда любовался, сейчас такие осторожные, ласковые руки. Она говорит тихонько, что узнаёт гостиную Мака, вот он — серебряный ангелок, и она так бы и глотнула из этого стаканчика, это вино так и хочется пригубить.
— Это ваш стакан. Вы тогда оставили его на столе.
Тут она забывается, она, кажется, выдаёт мне себя и отвечает:
— Да, я помню.
Но уже через мгновение она снова другая, она отодвигает картину и говорит:
— Бенони сейчас придёт. Он пошёл на мельницу. Вы его не видели?
Пауза.
— Да, я его видел, — говорю я.
Куда уж ясней, я совершенно себя выдал. И Роза всё поняла, она смотрит на меня добрым взглядом, но потом снова она качает головой.
— Это так скверно? — спрашиваю я.
— Да, вам не следовало в меня влюбляться, знаете ли, — говорит она.
— Да, не следовало, — отвечаю я, и сердце у меня щемит, — мне и самому раньше лучше было.
Роза была так естественна и проста, она тотчас перешла к делу. Нет, разумеется, мне не следовало в неё влюбляться. Однако же я влюбился. Да, но как она это приняла? Я не замечал в ней особенного недовольства, напротив — явственную благосклонность. Эта-то благосклонность больше всего и угнетала меня, я оказывался как бы ребёнком перед Розой. Но, к радости моей, она выказывала и признаки волнения. «Значит, я для неё не только ребёнок», — думал я.
— Я даже не предлагаю вам сесть. Лучше, пожалуй, если мы постоим, — сказала она и села. Тотчас она понимает свою оплошность, встаёт, улыбается и говорит: — Ну, видали вы подобное?
Совладав с собой, она указывает мне на стул и предлагает сесть:
— Почему бы нам и не присесть? Прошу вас! Я вам кое-что расскажу!
И мы сели оба.
Заговорила она с глубокой серьёзностью. Не то чтобы торопливо, сбивчиво, — нет, благоразумно и мягко. И я видел совсем рядом этот её большой красный рот, и тяжёлые веки, и длинные взгляды.
— Вы ведь слышали, что я уже прежде была замужем?
— Да.
— Да. И вот теперь я снова вышла замуж. Мой первый муж умер. Я старше вас, но будь я и ваша ровесница, всё равно я замужем. Разве я вам кажусь легкомысленной?
— Нет, нет.
— Я до такой степени не легкомысленна, что как бы до сих пор ещё чувствую себя женой Николая, а ведь он умер. Мы, разведёнки, и всегда-то так чувствуем, мы не можем совсем отрешиться от прежних наших мужей, не думайте, будто тут всё так просто. Дня не пройдёт, чтобы нам не вспомнить о них, одним всё это легче даётся, другим тяжелей, но никто не освобождается совершенно. Должно быть, и нельзя разводиться! Что же до вас — это такая нелепость, такая нелепость, о, это, может быть, и прекрасно, но с вашей стороны это ужасная ошибка. Чего вы хотите? Я на семь лет вас старше, и я замужем. Я не из влюбчивых, но если бы и случилось мне влюбиться, я скорей на костёр бы пошла, чем себя выдать. Вы, может быть, скажете, что сами видели, как я совсем потеряла себя от любви? Ах, в той любви дело шло не о сердце, но о месте экономки. Я была бедна, как церковная крыса, будь у меня хоть какой-никакой достаток — вы бы не увидели моего унижения. Вот, и знайте про этот цинизм, вам не вредно.
— Ах, какая разница.
— Очень, очень большая разница, вы сейчас убедитесь. Будь я даже не замужем и ваша ровесница, я бы всё равно даже не взглянула на вас.
— Оттого, что я тоже беден, как церковная крыса? Но ведь первый-то муж ваш точно так же был беден, однако вы столько лет его ждали? Нет, это вы нарочно на себя наговариваете, чтобы облегчить мою участь!
— Вы полагаете? — ответила она и усмехнулась.
А ведь тут она обнаружила свою истинную женскую сущность, нет, ей вовсе, кажется, не было неприятно, что я именно так её понял, что я её считал самоотверженной в любви! Всё это я уже после сообразил, а пока продолжал своё:
— Ну, а то унижение перед Хартвигсеном более чем понятно, обыкновенная ревность к сопернице.
Роза бледно улыбается.
— Ну, может быть, — говорит она. Но тотчас она начинает сердиться на моё это предположение и снова принимается мне перечить: — И вовсе нет. Ах, да не всё ли равно. И почему это я должна тут сидеть и перед вами отчитываться?
— Нет-нет, — отвечал я покорно, но, конечно, я угадал, вовсе она не была так неспособна влюбиться, как она утверждала.
— Так вы думаете, это я ревновала? — сказала она. — Но я не романтическая особа, слышите вы, я совершенно проста и буднична, вот, я вся перед вами. Мой муж, то есть я хочу сказать — мой первый муж, он говорил, бывало, что я ужасно скучная. И я думаю, он был прав. Да, но что это, в самом деле, за разговор! — вдруг оборвала она себя. — Ваши чувства Бог знает куда могут вас завести, мне только и остаётся, что их пресечь.
— Вы не можете их пресечь, — сказал я.
— Как же! Вы и сами знаете, что будь тут другие, вы бы не думали обо мне. Но тут почти нет никого, а вы нигде не бываете, никого не видите. Да, но случай, должна признаться, для меня новый. Те, кто влюблялись в меня прежде, не слишком этим тревожились, не лишались сна и аппетита, Николай был спокоен, Бенони — и того спокойней. Так что я уж и не знаю даже, как мне с вами обращаться.
— Можно, я скажу — как?
— Да.
— Не нужно со мною обращаться так по-матерински. Не нужно вести себя со мною так снисходительно.
Тут она засмеялась и ответила:
— Вот как? Не нужно? Но другого выхода нет. Иначе вам нельзя сюда приходить.
— И прекрасно! — объявил я со своей молодой горячностью.
— Ну зачем вы так, право? Вы сами понимаете, что это ребячество.
— А вы понимаете, что вовсе я не ребёнок, — выпалил я с обидой.
Роза вся подаётся вперёд, смотрит на меня и отвечает:
— Нет, какой же вы ещё ребёнок!
Я сидел и смотрел на неё. Я-то считал её таким тонким человеком, и что же я слышу? Всё вздор, глупости, женская болтовня, мне уже двадцать два года исполнилось.
— Возможно, вы не во всём ошибаетесь, — говорю я тогда. — Да, я думаю, если бы тут были другие...
— Вот именно, — перебивает она.
— Я попытаюсь себя переломить. Скоро подморозит, начнётся охота, я буду больше ходить, обойду всю округу...
— Да, да. Непременно! — сказала Роза, она встала и положила свою ладонь на мою руку, постояла так мгновение и села опять. — Да, видите ли, другого нет выхода. Я ведь вам как старшая кузина, взрослая, большая, огромная кузина.
Новое оскорбление. Не такой уж я был крошка, чтобы ей быть огромной. Я ещё продолжал расти, это правда, но этот проклятый мой поздний рост должен был вот-вот прекратиться. Я нарочно меняю тон, я спрашиваю:
— Что, путешествие в Иерусалим как будто не состоится?
Пауза.
— Да.
— Раздоры в свите?
Пауза.
— И это вы, такой робкий... бывало, никогда ни о чём и не спросите... Ну, хорошо же, я вам ещё кое-что расскажу, хотите? Вы, кажется, заметили, что сегодня я сама не своя, и это истолковали по-своему. А дело вот в чём: лопарь был тут сейчас, Гилберт, он всегда на меня нагоняет страх, он так много знает.