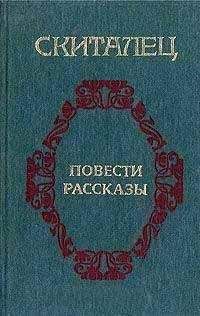Молодецкий курган — отвесный утес, правильный, как стена крепости — грозно стоит над широкой водной равниной. Он встает прямо из пучины, неприступный с Волги, и кажется сложенным циклопами из огромных слоистых камней.
Из расщелин этих камней растут ели и березы, охватывая своими корнями голые, твердые камни. Внизу клокочут степные орлы, вьющие здесь свои гнезда. Да и сам Молодецкий курган, полукруглый, окаймленный с двух сторон лесом, напоминает собою огромное разбойничье гнездо. Позади кургана, еще выше его, поднимаются самые высокие Жигулевские горы, амфитеатром окаймляя устье реки Усы. Страшные скалы, словно сдвинутые когда-то гигантской рукой, висят над водой с вечной, неизменной угрозой. Высоко на соседней горе виднеются причудливые камни, похожие на развалины замка с зубчатыми стенами и острыми башнями, с неясными сказочными фигурами людей и небывалых зверей.
Все здесь широко, привольно и романтично, природа словно дышит героическим настроением, и кажется, что только при такой декоративной обстановке могли совершаться народные мятежи и разбойничьи подвиги.
Над этими горами еще носятся величавые тени далекого прошлого, еще бродят таинственно бесприютные горные духи, еще живут они в лесных дебрях Жигулевских гор и в лунные весенние ночи играют и аукаются в горах и купаются в зеркальной Волге под серебряными лучами месяца среди таинственной ночной тишины. Хоровод окружающих гор, шевеля своими кудрявыми лесами, шепчет все еще прежние величаво-печальные истории.
Привидения прошлого стоят здесь близко-близко, дышат на вас за вашими плечами, и вместе с шепотом ветра и шелестом листьев, вместе с ропотом волн шепчут и они что-то неведомо грустное…
Чуткая, торжественная тишина охватывает девственные горы и Волгу, и только слышится журчание быстро мчащейся воды, да горные ключи бьют из камней и, звучно струясь, падают в реку.
Тишина и необъятная ширь.
Над серебряной, блестящей на солнце, гладью реки опрокинулась глубокая чаша неба, и в ее безграничной вышине мчатся белые стада облаков.
А внизу — мерные волны, неслышно, приходя одна за другой, таинственно бормочут о чем-то…
«Гусли-самогуды», качаясь на дереве, отвечают что-то невидимке-ветру…
Савоська рассказывает.
Все огарки лежат под тенью дуба, над обрывом утеса в различных позах… Толстый — в феске и коричневых запорожских штанах. Северовостоков — в испанской рубашке и черной широкополой шляпе, делающей его похожим на бандита.
Рядом пылает костер и кипятится в котелке «уха».
Около котла хлопочут Сокол и Небезызвестный.
Савоська сидит, поджавши под себя ножки, лицом ко всей компании, величественно протягивает перед собой руку и квакает:
— Э!.. Хорошо быть вальдшнепом, хорошо лететь вы-со-ко-высоко в небе и мчаться на легких крыльях в необъятной небесной пустыне, мчаться над спящей печальной Россией все дальше и дальше на юг, в далекий теплый край, за теплое море… Э!.. Хорошо!.. Харг!.. Харг!..
Звуки земли становятся все тише и глуше, поля, леса и реки заволакиваются туманом, и слышен только нежно-задумчивый шелест… Что это? Шелест грустных камышей, склонившихся над зеркальным озером, или знакомый лес шелестит своими махровыми ветвями? Ветер ли в степи звенит высокою, сочною, зеленой травой?.. Харг!.. Харг!..
Савоська растопырил обе руки, как крылья, и, воображая себя летящим в небе вальдшнепом, продолжал вдохновенно:
— Далеко-далеко внизу вьется широкая блестящая лента Волги… Зеленеют горы… Желтеют песчаные косы… Сереют печальные деревни… Стонет песня Волги — «Дубинушка»… Дальше… дальше… Харг!.. Харг!..
Широкие зеленые степи, старые степные могилы… хутора… стройные тополя… белые хохлацкие хаты, окутанные вишневыми садами…
Парубки в сивых шапках и днвчата в ярких нарядах, с цветами и лентами в русых волосах, водят хороводы и поют печальные песни… Дальше!.. Все дальше!.. Харг!.. Харг!..
Море! вот оно, густо-синее, излишне синее южное-море!.. Солнце!..
Яхонтовые струи лениво говорят что-то на своем языке и со звоном разливаются по золотистому песку.
Ширь морская в необъятной дали сливается с безоблачным небом и, слабо дыша, колыхает на своей груди, словно белых птиц, турецкие парусные лодки, а южное солнце потоками мягких лучей заливает эту лазурную громаду, играя радужными брызгами… Э!.. Хорошо!
Теплый, влажный ветер, пропитанный запахом пряных трав и соленого моря, страстно шепчется с рядами стройных кипарисов… Смуглые люди… Южные женщины, еще хранящие в своих чертах античные типы… Э!.. Хорошо любить жизнь, красоту и море!.. Харг!.. Харг!..
Дальше!.. Все дальше!.. Море!.. Все только волны и небо, небо и тучи!.. Взволнованная громада глубоко дышит крупными тяжелыми волнами, по небу мчатся косматые, разорванные тучи, и кажется, что на горизонте они опускаются в пучину и волны, вздымаясь, касаются туч. Как чудовища, низко ползут они над волнами… Волны прыгают и ревут, как белогривые звери…
Кажется, что царь морской возненавидел надводный мир, — так гневно дышит море своего мощною грудью.
И поет море… Поет, как орган, могучую, торжественную вечную песнь… И песнь эта — о тайнах мира, о морской глубине, о вечности звезд, о торжестве всемогущей природы… Э!.. Хорошо быть вальдшнепом!.. Дальше!.. Все дальше!.. Харг!.. Харг!..
Как хороша Розовая скала около Сорренто!
— Хо-хо-хо! — не выдержали огарки. — А ты был в Сорренто?
— Не перебивайте!.. — в отчаянии возопил Савоська, потрясая кулаками. — О, черти! Все пропало! Не могу больше о вальдшнепе!
Савоська «тяпнул» водки и углубился в себя, вдохновляясь на новую тему.
— Видел ли ты море-то? — спросили его.
— Никогда! — отвечал Савоська.
— Расскажи лучше о твоей преступной связи с аптекаршей! — невозмутимым тоном посоветовал Толстый. — Или о том, как ты выстроил церковь!
Все рассмеялись.
— Э! — квакнул Савоська. — В церковь, выстроенную мной, я никогда не войду, а об аптекарше не стоит вспоминать: когда я пришел к ней в последний раз — квартира оказалась запертой. Я — в аптеку и, конечно, наткнулся там на аптекаря. Однако не сморгнул глазом: где, спрашиваю, мадам такая-то? А аптекарь мне с ядом: «Уе-ха-л-ли, говорит, в Петербург!..» И так это он скверно сказал, что я тотчас же в тон ему ответил: «Кл-ли-зма», повернулся, хлопнул дверью и ушел. Вот и все! — печально закончил Савоська.
— Хо-хо-хо! — гремели огарки.
— По-моему, любовь — это чепуха! — продолжал Савоська. — Это нечто буржуазное! Э! — хлопнул он себя по лбу. — Хотите, расскажу вам «лягушиную любовь»?
— Жарь!
Савоська подобрал ноги под себя, протянул перед собой руки и начал торжественным голосом:
— Тихо было на болоте… солнце закатывалось… На вязком грязном берегу от лошадиного копыта остался глубокий след, наполненный водой. И вот туда-то, в это уединенное место, скрытое тенью колоссального лопуха, и заплыли две зеленые молодые лягушки помечтать на закате солнца. Э!.. Хорошо мечтается на болоте в колдобине от лошадиного копыта!
Тихо шевеля своими зелеными лапками, две подруги тихонько напевали нежный лягушиный дуэт, — шалуньи! Они уже знали, что около колдобины робко плавает головастик, безумно влюбленный в одну из них!
Наконец, он не выдержал и тоже появился в этой уютненькой лужице с только что пойманным хрущом во рту.
Грациозно подплыл он к подругам и положил хруща к ногам любимого существа.
— Это для вас! — выпуская пузыри, галантно прошептал головастик. — Он еще живой-с! Э!
Огарки рассмеялись.
— К черту лягушиную любовь! — загалдели они. — Отхватывай лучше стихи…
Сокол, в красной рубахе без пояса, в высоких сапогах и без картуза, стоял на краю обрыва и давно уже задумчиво смотрел на Волгу.
— Никакими ты мне стихами не опишешь того, — с расстановкой, медленно вымолвил он, — как плывет тихая река к морю.
— Верно! — поддержали его.
— Мне теперь так вот кажется, — продолжал Сокол уже патетически, — что вот эти все горы, и вот эта гора, вон-вон, что похожа на развалины дворца, — все это вовсе не графа какого-то там, а мое, наше, потому что предки наши здесь разбойничали, и все эти места им принадлежали. Они здесь были хозяева! Да!
— Дорогой мой, вы, как мне кажется, смотрите на природу с точки зрения крестьянского малоземелья! — прервал его Небезызвестный.
Все засмеялись.
— Что ж! — отважно возразил Сокол. — Я говорю о самой истинной справедливости: кажется мне вот, да и баста, что воротился я сюда как будто бы домой, в свое владенье, к этим развалинам дедовским, и все это — мое! Но только что, конечно, забыли все настоящего-то владельца, не признают его и в грош не ставят, потому что давно уже он в неизвестной отлучке, в бедности и унижении, жизнь ведет огарческую, цыганскую, как есть — цыганский барон! Вот он придет когда-нибудь и скажет: дав сюды мое графство!