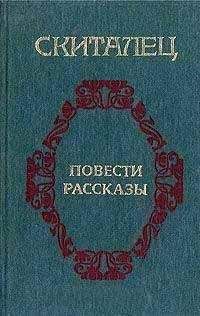— Держи карман!
— Огребай плотву, яко щучину! — прогудел Северовостоков.
— У моего папаши земли тоже целое графство, — пропищал Гаврила, — а попробуй-ка сказать ему: «дав», — как он завизжит!
— Палил черт свинью: визгу много, а шерсти мало! — отозвался Толстый.
— Хо-хо-хо!
— А все-таки этот курган — мой! — не унимался Сокол, сверкая глазами. — И горы — мои и скалы — мои! Все здесь — мое!
Слегка выпивший, возбужденный, он говорил это полушутя, полусерьезно. Черные густые волосы его стояли дыбом, ветер трепал красную распоясанную рубаху.
— Вот здесь, — пнул Сокол камень, на который опирался ногой, — вот, может быть, на этом самом месте стоял каменный стул батюшки Степана Тимофеевича, и он позволил тут суд рядить и ослушников казнить: прямо в Волгу их отсюда сбрасывали! Ого! — радостно крикнул он.
— Это в тебе разбойничья кровь говорит! — спокойно заметил Толстый, полулежа на земле и наливая себе водки в свинцовую чарку. — Истинно говорю тебе: долбанешь ты когда-нибудь какое-либо начальство шкворнем по башке!
— Долбану! — согласился Сокол.
— Постойте-ка! — вдруг вскрикнул Савоська и, склонив голову набок, прислушался. — Слышите?.. голоса!.. там, внизу — драка! — решил он, вставая. — Плюньте мне в морду, если вру: у меня ухо охотничье!..
Все прислушались.
Сквозь шум волн действительно чудилась человеческая ругань, крики и чей-то плач.
Огарки вскочили на ноги.
Через минуту они уже спускались по затылку Молодецкого кургана к берегу Усы.
Впереди всех был Северовостоков. Против кургана стояла на Усе барка, грузившая камень, а на берегу шумела толпа бурлаков, крючников с этой барки, человек двенадцать. Одни из них смеялись, другие ругались. Плакали и визжали трое деревенских мальчишек: крючники поймали их, держали за шиворот и за что-то били, поднимая за волосы на воздух…
— Москву им надо показать! — со смехом галдели крючники.
Вдруг с горы загремел голос Северовостокова:
— Гей, вы! Ухорезы! Не смейте бить детей!..
Крючники задрали головы кверху: в полугоре стояли, выжидая, огарки, а по тропинке спускался с кургана «барин» — человек в широкополой шляпе; шляпа возбудила в крючниках ненависть.
В ответ на грозный окрик певчего посыпался град вызывающих, скверных ругательств, таких изысканных, какие можно слышать только от бурлаков на Волге.
— Эй! шляпа!.. Убирайся на легком катере к чертовой матери!.. Твово бы отца величать с конца!.. Барский нищий с худой голенищей!..
Ругань была рифмованная, художественно артистическая, перебиравшая всю родословную, полная самых невозможных пожеланий.
Из толпы выделился здоровенный парень и принял вызывающую позу.
— Потрафь ему в морду! — просили его товарищи. — Д-дай ему!
Крючники хотели воспользоваться случаем — поколотить «барина».
Северовостоков преобразился — он сразу вспыхнул, рассвирепел и пришел в состояние величайшей ярости: смуглое лицо его покрылось мертвенной бледностью, брови грозно сдвинулись, глаза осветились огнем. Он быстро сбросил с себя пиджак и шляпу, окинул толпу молниеносным взглядом, потом огляделся кругом, и взгляд его упал на разбитый остов челнока-душегубки, валявшейся на песке. Это было дно маленькой, черной долбленой лодки, с расколотой носовой частью. Как тигр, прыгнул он к ней, наступил ногой на одну половину, схватил другую обеими руками, с треском разодрал челнок пополам и в неподражаемо гордой позе замахнулся этой половиной лодки, намереваясь ею истребить своих врагов. Он был удивительно красив, живописен и страшен в эту минуту, ловкий, гибкий, как хищный зверь, бледный, с горящими глазами и целой гривой развевающихся кудрявых волос.
Крючники в ужасе бежали от него. Северовостоков не стал их преследовать, но, чтобы разрядить свой гнев, грянул половинкой челнока о большой камень, и она разлетелась в щепки.
Убежали и крючники и побитые ими ребятишки.
Издали слышались голоса.
— Это сам окаянный!
— Эх, паря, на какого черта наткнулись!
— Они все, должно, такие!..
— Хо-хо-хо! — ржали огарки, опускаясь к реке. — Наш удар!
После такой легкой победы над крючниками огарки разделись и стали купаться в зеркально чистой Усе, около своей лодки.
Северовостоков бросился в воду первый и сразу же поплыл вдаль, мимо кургана, к Волге. Плавал он великолепно, легко рассекая спокойную гладь реки своими богатырскими руками и взбирая грудью пенистую волну. Огарки долго любовались, как после каждого взмаха руки показывалась над водой его могучая смуглая спина, влажная и блестящая на солнце, вся из напряженных мускулов.
Наконец, он пропал из глаз.
Прошло с четверть часа, а Северовостоков не возвращался.
Огарки вылезли из воды, оделись, а его все не было.
Тогда они стали беспокоиться.
— Что за черт? куда он делся? — недоумевали огарки. — Не утонул же в самом деле?
И они все хором, разными голосами, надрываясь, начали кричать, издавая протяжные, дикие звуки:
— Ого-го-го-го!
Но никто не отзывался — только эхо гудело в горах.
Тревога их стала возрастать.
— Поедемте за ним на лодке! — предложил Толстый. — Заплыл, должно быть, далеко, черт!
Они уселись в лодку, отчалили и направились через Волгу к ее чуть видному песчаному берегу.
Ехали, уныло всплескивая четырьмя веслами, озирались кругом, кричали, махали рубахой, привязанной к багру.
Но кругом расстилалась и молчала огромная водная ширь, блестящая под лучами солнца.
Молодецкий курган остался далеко позади них, сделался маленьким, а песчаный берег был еще далеко. Волга здесь разливалась версты на три.
Доплыв до середины реки, они долго кричали, пока не охрипли.
Северовостокова нигде не было.
Огарки бросили весла, умолкли и задумались.
Сокол, сняв шапку, перекрестился.
— Царство небесное! — сказал он строго и мрачно.
Тогда и остальные, при всем их равнодушии к религии, обнажили головы и тихо прошептали:
— Царство небесное!
— Хороший был огарок, а как умер глупо!
— Главное — молодой еще… жалко!
— Некролог напишу! — сказал Небезызвестный.
Они повернули лодку обратно и поплыли опять к Молодецкому кургану в глубоком печальном безмолвии.
Но лишь только подъехали они к берегу, как откуда-то издалека доплыл до них могучий знакомый голос…
— Это он! — радостно закричали огарки, подняли весла и прислушались.
На далеком песчаном берегу Волги пел Северовостоков, и голос его разносился на три версты кругом:
Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней, по волнам,
Легка лодка плывет…
— Орет! — радостно закричали огарки. — У, Балбес проклятый, сколько людям крови испортил, подавиться бы тебе!.. Айда, ребята, скорее к нему!.. Хорошо, что хоть хайло-то у него, как у влюбленного осла!..
И огарки, дружно работая веслами, снова поплыли за три версты.
А Северовостоков орал все громче и ужаснее, забираясь на самые верхние ноты:
В ней сидел молодец.
Волны резал веслом.
Шапка с кистью на нем
И кафтан с галуном
Это была волжская разбойничья песня. Огарки мчались прямо на голос.
А в боярском дому
Отворялось окно,
По веревке краса
Молодца приняла —
гремело по реке.
Степка-Балбес долго пел еще и кончил песню громовой размашистой нотой.
Только через час переплыли они Волгу и причалили к песчаной отмели лугового берега.
Под лучами полуденного солнца Северовостоков давно уже спал нагой на песке. Он лежал вниз лицом, положивши косматую голову на вытянутые могучие руки; голова его и грудь были на берегу, а все тело по пояс лежало в воде: ленивые волны медленно перекатывались на его спину и снова сбегали с худого, мускулистого, словно вылитого из бронзы тела. И казался он какой-то символической фигурой, странным исчадием Волги, наполовину принадлежащим ей и заснувшим в энергичной позе стремления вперед.
VIIОтъезжавших огарков пришли провожать на конторку парохода Павлиха, Сокол и Гаврила.
Явились еще певчие — девять басов архиерейского хора, вся басовая партия, и регент Спиридон — провожать Северовостокова.
Опять было прелестное весеннее утро. Волга дышала привольем, свежестью, отрадой.
Огромный двухэтажный пароход, белый, как лебедь, пыхтя и выпуская в воду пары, зашевелил могучими лопастями колес и стал медленно отходить от конторки.
На верхней площадке его сгрудилась густая толпа отъезжавших; внизу, на конторке, не менее густая толпа их родных и знакомых. Слышались восклицания, приветствия, прощальные пожелания.
В воздухе мелькали платки.