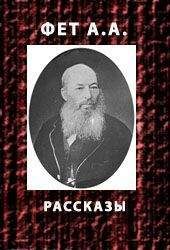- Какое ты пьешь вино? - спросил Аполлон, - красное, белое? крепкое? шипучее?
- Всякое, или, лучше сказать, никакого.
- Подай самого лучшего! - взвизгнул хозяин, обращаясь к лакею с прорехой под мышкой.
Мы сели за стол. Мизинцевская кухня в продолжение восьми или девяти лет мало подвинулась вперед.
Правда, блюда стали еще затейливее, явились новые термины: фрикандеи, суп с гнилями, маинесы, говядина превратилась в бафламут; но сущность осталась вся та же. Волос и тряпок в ней. кажется, еще прибыло. Лучшее вино оказалось до половины отлитой бутылкой, пополненной жидкостью неопределенного цвета. К счастью, благодаря предшествовавшей сцене аппетита у меня не было никакого; кусок не шел в горло.
- Человек! прикажи моему кучеру запрягать и подавать.
- Куда ж ты так скоро? Ночуй у меня.
- Нет, извини, брат, через четыре дня еду на службу; поэтому тороплюсь. Передай тетушке мое уважение и скажи, что я не хотел ее беспокоить.
Я вернулся домой. Еще несколько дней - и новая разлука. Кажется, давно ли, точно так же на неопределенный срок, покидал я родные места? Места те же, люди те же; но есть ли какое-нибудь сходство в чувстве тогдашнем и теперешнем? Отчего мне так не хочется, отчего мне жаль уезжать?..
____________________
Давно не видал я этой тетради. Вот уже лет пять лежит она в числе прочих бумаг на столе, под кобурными пистолетами - нашем походном пресс-папье. Она начата, когда еще живо было во мне впечатление последней сцены в Мизинцеве, но теперь, когда оно побледнело и заменилось новыми, которые возбуждены близкими утратами, мне как-то странно видеть эту рукопись. На что? для кого она? что она доказывает? Разве справедливость стиха: "Как наши годы-то летят! " Пойдешь, бывало, на ординарцы к начальнику, да как он скажет: "Славно, Ковалев! Все, что я слышу, меня радует. Прекрасный будет офицер!" - так целый день готов делать приемы саблей и карабином. Кажется, это было за несколько недель, а вот уж шестой год, как я офицером, и два года каждый день кричу то же, что тогда кричали мне: "Корпус назад! колено назад! каблуки вниз! повод ближе к шее! смотреть между ушей, подбородка не вешать!" Но еще раз: кого это может интересовать? Разве товарищу прочесть на сон грядущий, а может быть, и С-вой. Она почти еще дитя. Но преумное и милое… К чему я ее тут приплел? Это глупо. Баста! Прощай, тетрадь! Ступай опять под пистолеты…
____________________
Опять на родине! Сколько раз завидовал я поэтам! Что за чудный дар сказать самую простую речь, которая, при известных обстоятельствах, каждому так и просится на язык, так и ложится под перо! Вот и теперь так и хочется продолжать: "Я посетил тот мирный уголок…" Кто не пережил, подобно мне, воротись, после долгого отсутствия, опять на родину, во всех родах этого стихотворения? "Уже старушки нет…"
Какая полнота и верность! какой напев! а между тем ни одной рифмы. Поставьте одну - и все пропало. Как бой часов прогоняет ночного духа, одна рифма - звонкий отголосок действительности - рассеяла бы задумчиво-сладостный, безмятежно-грустный сон давно минувшего. Говорят: следы сабельных ударов украшают мужественное лицо воина. Если это правда, то не как темно-красные полосы украшают они его, но как живая вывеска отваги, смотревшей прямо в глаза смерти, и силы, перенесшей жестокие удары. Не то же ли с нашим сердцем? Не потому ли воспоминания его тем слаще, чем глубже некогда оно было уязвлено? Не оттого ли так весело и больно тревожить язвы старых ран? Казалось, если б не дела, не поехал бы я домой: незачем! Дом пустой; одних уж нет, а те далече… Выходит, не то. Я здесь молодею многими годами. где-то теперь Василий Васильич? Где Сережа? Вот сиреневые кусты, под которыми ловились синицы. Вот Старые липы. Как-то они потемнели и шепчутся между Собою. На днях был у меня Морев и упросил приехать К нему. На замечание, что ни я, ни мои люди не знают к нему дороги, он принялся ее толковать:
- Знаешь, верстах в сорока постоялый двор, на большой проселочной дороге?
- Знаю.
- Помнишь, на десятой версте, за ним дорога разделилась: одна пошла направо, к Мизинцеву, а другая налево, ко мне. Только ты по ней не езди: верст пять крюку будет, а будет с нее направо полевая дорога, так ты по ней поезжай. Отъедешь версты Четыре, увидишь церковь направо, а там всякий мальчишка тебе скажет, где Дюково.
В условленный день, на десятой версте за постоялым двором, мы повернули налево. При первой полевой дороге вправо я велел кучеру свернуть на нее.
- Дожно быть, эта дорога не туда; что-то она больно вправо заворачивает, - пробормотал кучер.
- Пожалуйста, не умничай; сказано вправо, и поезжай вправо.
Лошади пустились большой рысью.
- Кажется, Петр Петрович изволили говорить: до церкви четыре версты - а мы проехали верст шесть, а церкви не видать, - отозвался сидевший рядом с кучером Семка.
Проехали еще версты две; показалась церковь.
- Попасть-то попадем, - забормотал снова кучер, - только в Мизинцево, да с другого конца.
- Что ты врешь! - закричал я, - Мизинцево осталось вправо.
Когда мы подъезжали к церкви, навстречу нам попалась дворовая девочка, лет десяти.
- Куда ж ты несешься? Надо, по крайней мере, расспросить.
Кучер остановил лошадей и оборотился в ту сторону, по которой шла девочка, с выражением лица, ясно говорившим: посмотрим, мол, что из этого будет?
- Послушай, умница! какое это село?
- Мизинчево, - отвечала девочка, картавя.
- А дома барин?
- Нету-ш.
- Кто ж дома?
- Шталая балиня дома-ш.
- Пошел на барский двор! - сказал я, на этот раз не очень громко.
Во флигеле Аполлона перемены почти никакой не оказалось. Та же комната, та же мебель, бумаги, духи, пурки, романы, овес и проч. Только разве ковры несколько полиняли.
- Семка! приготовил ты мне сюртук со вторыми эполетами?
- Готов-с.
- Давай мне бриться! Ну, что ж ты стоишь?
- Виноват.
- Что такое?
- Забыл бритвы захватить.
- Эх, брат! Мы с тобой не минем никуда поехать без того, чтоб чего-нибудь не забыть! Ты хоть бы у здешнего человека спросил Аполлона Павловича бритвы.
- Спрашивал, да нету-с. С собой увезли, а здесь все на замок-с.
- Однако не пойду же я к тетушке с такою бородой.
- Совсем мало заметно-с.
- Ступай и принеси мне бритву - понимаешь?
Семка ушел. Со скуки я взял какой-то роман Сю, кажется, "Le sept peches capitaux " {Семь смертных грехов (фр.)}. Перевернув две-три страницы, вижу, на атласной бумажке с кружевным ободком и цветной виньеткой, записку, начинавшуюся словами: "Mon ange! Votre femme est une indigne" {Ангел мой! Ваша жена человек недостойный (фр.)}. Я захлопнул книжку и бросил на стол. Явились бритвы.
- Доложили ли тетушке о моем приезде?
- Докладывали-с; приказали просить-с.
- А куда идти? Через двор, в большой флигель?
- Точно так.
Немудрено было мне отречься от Мизинцева! Когда-то желтая решетка частью повалилась, частью разобрана на дрова; старый сад вырублен, и на месте его торчат какие-то палки; пруд почти высох; деревня по другую сторону почернела и, кажется, присела к земле; по выгону бродят тощие крестьянские клячи. Собственно барский двор кругом зарос исполинским репейником и лопухами. Колизей от времени и дождя принял пепельный цвет и, как мрачный циклоп, смотрел на деревню своим черным слуховым окном. В просветах между поперечными досками, которыми заколочены прочие окна, тучи галок кричат и хозяйничают. Немудрено, что их такое множество: верно, во всей губернии не найдется для них удобнейшего помещения. Тетушку я, как и в последний раз, застал на диване. Незатейливые рукава ее холстинкового платья стали так коротки, что она принуждена была втягивать в них свои сухие, жилистые руки, вроде того как это делают ребятишки на морозе. На окошке лежала книжка с картинками, а рядом с тетушкой, на диване, сидела большая серая кошка, лениво щуря зеленые глаза. Тетушка решительно не переменилась. Не сделайся у нее этого горба, можно бы сказать, что она стала еще моложе и проворней.
- О, мон шер невё! {мой дорогой племянник! (фр.)} давно ли в наших местах?
- Очень недавно, тетушка!
- О! о! о! (град поцелуев) о! о! о! (новый град поцелуев). Прене плас {Садитесь (фр.)}. У! у! полковнички! Кель ранг аве ву? {В каком вы чине? (фр.)}
- Штаб-ротмистр, тетушка.
- О! о! ком се бьен! Ком са ву фет онёр? {как это хорошо. Какую честь вам это делает? (фр.)}
- Как здоровье маленькой Саши?
- О! о! ком ву зет эмабль! {как вы любезны! (фр.)} она уже большая девица! - и вслед за тем раздался голос тетушки: - "Шушу! Шушу! Кеске ву фет? Вене иси! {Что вы делаете? Идете сюда! (фр.)}
На зов явилась девочка лет шести, довольно чисто и даже нарядно одетая. Это был живой портрет матери, какою я видел ее в первый раз: те же голубые глаза, тот же цвет волос, то же круглое, свежее личико и та же робость в движениях.
- Шушу, фет вотр реверанс а вотр тре шер онкль! {Поклонитесь вашему дражайшему дядюшке! (фр.)}