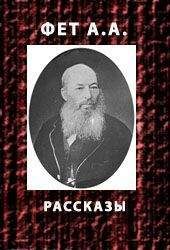На зов явилась девочка лет шести, довольно чисто и даже нарядно одетая. Это был живой портрет матери, какою я видел ее в первый раз: те же голубые глаза, тот же цвет волос, то же круглое, свежее личико и та же робость в движениях.
- Шушу, фет вотр реверанс а вотр тре шер онкль! {Поклонитесь вашему дражайшему дядюшке! (фр.)}
Девочка присела. Я взял ребенка за руку, подвел к себе и поцеловал в щеку.
- Шушу! Шушу! кеске ву зет?, - продолжала тетушка. Девочка молчала. - О! о! у! у! Кеске се? Репонде! кеске ву зет? {Кто вы такая. Что это? Отвечайте! (фр.)}
Девочка отступила два шага от моих колен, скрестила руки и, смотря на меня блестящими от слез глазами, проговорила:
- Je suis une pauvre malheureuse! Mon tres-cher papa ne m'aime, ma chere maman m'a abandonee {Я бедная, несчастная! Мой дражайший папа меня не любит. Моя дорогая мама меня покинула (фр.)}.
- Э, ки ески ву рест {А кто вам остался? (фр.)}, Шушу? - спросила тетушка, подделываясь под жалобный голос-ребенка.
- Je n'ai que ma tres chere gran'maman {У меня лишь моя дражайшая бабушка (фр.)}, сказала девочка, и две крупные слезы покатились по ее круглым щекам.
- О! о! ком се бьен! {как хорошо! (фр.)} - сказала тетушка со слезами на глазах, гладя внучку по голове. Але жуе! {Идите играть! (фр.)} О! о! какой он! Не поверишь, полковнички! Не могу порядочной прислуги иметь. Иль э си мове сюже {Он такой бездельник (фр.)}, - прибавила тетушка, улыбаясь сквозь слезы. Но элегический тон увлек тетушку.
- Иль не ме донь рьен, - продолжала она, всхлипывая, - э кельк фуа иле тре гросье {Он ничего мне не дает… А иногда он очень груб (фр.)}. - Проговорив последнее слово едва слышно, старушка как будто испугалась. Она быстро вскочила с дивана и, целуя воздух, бросилась было ко мне с словами: "У! у! полковнички!" - но, сделав два шага, перевернулась, проговорив особенным тоном: кошка, капошка - монтре ла ланг {Покажите язык (фр.)} - мои крошечки!
Серая кошка раскрыла глаза, зевнула, лизнула себя по носу и выставила розовый язык. Было довольно поздно, и я решился переночевать в Аполлоновой комнате, приказав Семке разбудить пораньше. Часов в семь утра Семка вошел ко мне, неся на подносе кофе.
- Велел запрягать?
- Запрягают-с. Вот щенок - так щенок!
- Что ты говоришь?
- Щенок отличный, английский-с.
- У кого?
- У ихнева повара-с.
- Что ж? он продает его?
- Продает-с.
- Скажи, чтоб показал.
Минуты через две, заспанный и взъерошенный малый, в сюртуке неопределенного цвета, привел щенка. Щенок оказался точно недурен.
- Что ты за него хочешь?
- Помилуйте-с, я не смею с вами торговаться. Что пожалуете-с.
- Ну, так не надо.
- Двадцать целковых следовало бы.
- Двадцать - дорого, а десять дам.
- Извольте, с моим удовольствием-с. По знакомству от егеря достался; а то нам, признаться, и держать нельзя: у барина настрого заказано-с, чтоб им-то, изволите видеть, не было, дескать, от нашего брата часом какой обиды-с.
- Семка! это наш колокольчик позвякивает?
- Наш-с.
- А что я тебе вчера говорил?
- Я ему сказывал-с. Говорит, с колокольчиком веселее.
- Поди скажи, чтоб подвязал до церкви - я пешком пойду, а там развяжет, коли уж так ему хочется ехать с колокольчиком.
Утро было пасмурно, и деревня казалась мне еще серей и мрачней вчерашнего. Зеленая ограда около церкви исчезла. На кладбище черная деревянная решетка вокруг могилы Павла Ильича повалилась. Бедный дядюшка! что бы он сказал, если бы…
Рассказ
Лет сорок тому назад аптеку в Кременчуге содержал некто Александр Андреевич Зальман. Высокого роста, красивый брюнет, Зальман обладал всеми качествами для успеха у женщин известного склада. С видом глубокомыслия и страстности он постоянно говорил о Шиллере, Гете, Байроне и т. п., и немногие догадывались, как, в сущности, он мало понимал тех, о ком говорил с таким жаром. Он был ревностным гомеопатом и, когда образованные покупатели являлись в аптеку за лекарством, обыкновенно говорил: "Охота вам брать эту дрянь. Это только пачкотня, портящая желудок. Я вам дам несколько крупинок или капель aconitum или nux vomica {Волчий корень… рвотный орех (лат.).}, и, верьте, вы будете здоровы". Успехи нередко сопровождали гомеопатические лечения Зальмана; его призывали в качестве врача иногда верст за сто от города, и своей практикой он вознаграждал недочеты по аптеке. Жена его, образованная женщина и хорошая музыкантша, с своей стороны способствовала домашнему благосостоянию, давая уроки на фортепиано. Эта серьезная, строгая женщина мало обращала внимания на проделки мужа и ревностно занималась воспитанием единственной дочери - Луизы.
Когда Луизе исполнилось шестнадцать лет, мать вывезла ее в Собрание на бал. Прекрасная блондинка произвела своим появлением фурор. На ней было воздушное белое платье, все перевитое плющом. На голове была тоже легкая ветка плюща, спускавшая подвижные концы свои на плечи маленькой феи. Многочисленные поклонники совершенно закружили девушку в бесконечных вальсах и галопах. Но особенное впечатление произвела молодая девушка на одного весьма некрасивого господина небольшого роста, черного как смоль? который, не танцуя, весь вечер простоял за стулом г-жи Зальман и как-то хищно следил глазами за порхавшею по зале Луизой. По расспросам он оказался ветеринарным лекарем из города К…, по фамилии Гольц. Начавшееся на этом бале его настойчивое преследование продолжалось целую зиму. Девушке, когда она являлась в Собрании, Гольц казался каким-то зловещим вороном, мать бегала от него по всем углам залы. Наконец сезон окончился. На следующую зиму m-me Зальман, рассудив, что молодежь рада вертеться около хорошенькой девушки, но не скоро решается избрать подругу жизни без приданого и что им далеко не по средствам выезды на балы, не повезла дочь в Собрание. Взволнованный отсутствием предмета своих преследований, Гольц, после трех вечеров напрасного ожидания, утром отправился в аптеку к Зальману. Александр Андреевич принял его в лаборатории с глазу на глаз и, вероятно, наговорил фраз вроде "очень рад, об этом надо зрело подумать, благодарю за оказанную честь" и т. д. Дело, однако, на этом не остановилось. Не добившись толку от отца, Гольц стал искать свидания с матерью.. Та долго его не принимала, но однажды утром, выведенная из терпения его неотвязчивостью, решилась отказать ему раз навсегда. За просторной гостиной, служившей хозяевам в то время и столовой, была небольшая комната, где под окном стояли пяльцы. Когда г-же Зальман объявили о приходе Гольца, Луиза сидела за пяльцами. Не желая принимать незваного гостя в столовой, хозяйка заперла за собой дверь и пригласила его в узкую диванную, отделявшую собственно аптеку от хозяйского помещения. Выслушав стремительные объяснения Гольца, мать Луизы сперва ограничилась вежливо сухим и решительным отказом, но когда Гольц, ссылаясь на обещания, данные ему Александром Андреевичем, стал говорить, что так нельзя делать, что это недобросовестно, она, высказав все неприличие его поступков, попросила его оставить комнату и не являться более в их дом. Услыша эти речи, Гольц вскочил со стула и, тыча пальцем вниз, закричал во все горло по-немецки: "Хорошо, gnadige Frau {милостивая государыня (нем.).}, я ухожу, но я говорю, она должна быть и будет моею во что бы то ни стало! Es muss biegen oder Brechen" {Не добром, так силой (нем.).}. С этими словами он скрылся в аптеку и, хлопнув дверью, вышел на улицу. Вернувшись в комнату, мать застала Луизу дрожащую всем телом и рыдающую над пяльцами.
- Ты подслушивала? - спросила она дочь.
- Нет, maman, я не вставала с места, но он так громко кричал, что я слышала последние слова.
- Это все я виновата! - воскликнула мать. - Я всегда была против этих выездов. Это меня сбили с толку. Бедной и порядочной девушке выезжать на эти балы даже непристойно. Точно константинопольский базар. Успокойся, перестань плакать, - теперь все пойдет хорошо. Я одна виновата, и верь, мне больнее, чем тебе.
В ту же зиму, простудившись на уроках, г-жа Зальман слегла в горячке. Крупинки не помогли. Через две недели ее не стало. На похоронах Луизу нельзя было оторвать от гроба матери. Она едва не помешалась от горя. Что касается до Александра Андреевича, то со смерти жены он совсем отбился от дому. Молодая, неопытная девушка, как не вполне оперившаяся птичка, сиротливо жалась по углам опустелой квартиры. Между тем Гольц, услыхав о смерти матери, стал снова появляться в аптеке. В такие минуты девушка просто запирала двери на ключ и, рыдая, на коленях молилась богу и призывала на помощь безответную тень матери. Ее нельзя было узнать. Из веселой, одушевленной она стала пугливою, задумчивою. В такой истоме прошла зима. После святой недели по городу разнесся слух, что Александр Андреевич женится на известной в городе красавице Anastasie Заболоцкой. Нареченная Зальмана попала в дом своего дальнего родственника, старого и богатого помещика Коваленко, почти одновременно с его женитьбой на молодой соседней барышне. Коваленко, страстно любя свою жену, не отказывал ей в светских удовольствиях, которым та, за неимением детей, предавалась со всем пылом молодости, боящейся одиночества. Великолепный дом их на берегу Днепра, в нескольких верстах от Кременчуга, был постоянным сборищем блестящей молодежи обоего пола. Обеды, танцы, катанья в катере, фейерверки в старинном саду, кавалькады и зимние катанья по льду в санях тянулись веселой вереницей круглый год. Anastasie, несмотря на личную бедность, являлась в этом кругу звездою первой величины. Стройная, черноглазая брюнетка, с золотистым, цыганским загаром на щеках, она решительно затмевала свою хорошенькую тетеньку. Ревнивый старик, втайне радуясь такому положению дел, хотя и не обеспечивал будущности своей племянницы, но окружал ее той роскошью, которая соответствовала ее положению в доме. Начитавшись модных романов Занда, и без того пылкая Anastasie приобрела по всему околотку репутацию эксцентрической особы, но мужа не приобрела. Красавице минуло двадцать пять лет. Золотистый отблеск лица стал иногда отдавать неприятною желтизной. Anastasie догадалась, что ей нечего более ожидать от настоящей жизненной обстановки, и обратила милостивое внимание на Александра Андреевича.