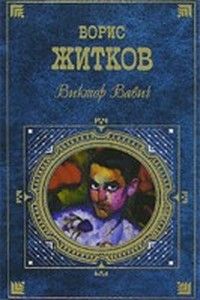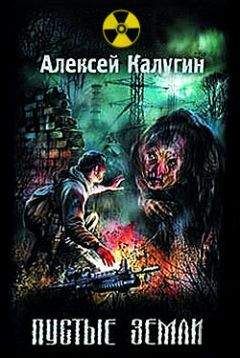— Да вот говорит: спроси ее, пусть скажет, есть Бог или нет?
— Во тебе богов цельный угол, — и Филипп протянул пятерню к божнице, — выбирай себе любого, волоки домой хоть в мешке.
— Об этом мы поговорим, — сказала Наденька. В это время все обратили внимание: из коридора кричал женский голос.
— Что ж, говорю, самовар-то возьмете? Кипит, говорю, самосильно.
Оба парнишки пружиной дернулись с кровати и бросились весело в коридор.
Филипп принес посуду и баранки.
Когда рыжий стал щипать на мелкие кусочки сахар, сосед, смеясь, сказал на весь стол:
— Ты что это, уж в гроб казну загнать хочешь?
Наденька не знала: пить ей вприкуску или положить кусок в чашку.
Филипп ложечкой плюхнул Наденьке большой кусок, расплескал на блюдечко.
МИМО Наденьки просунулась рука, и молодой парнишка, ухмыляясь, сказал:
— Нам бы сюда пару бубликов и того… косвенного бы баночку.
Все рассмеялись. Что-то сразу раскупорилось, и все не в лад заговорили. Наденьке эти разговоры казались аплодисментами. Она скромно и важно прихлебывала чай.
— Да, чай не чай, — говорил рыжий, наклоняясь к блюдцу, — а очищенную потребляем, — он подул в блюдечко, — и даже, сказать, здорово.
— А вот дал казне заработок, зато тебе квартира бесплатная, с казенным замком.
— А в перевыручку тебе еще в загривок всыпят, — пустил с кровати паренек.
— Да что, товарищи, обижаться на фараонов, да по пьяному делу, — сказал Филипп, сказал громко и повернулся боком к столу. Он размахивал руками, чуть не задевая Наденьку. — Фараон и есть фараон! Что он тебе — дядя крестный? А вот когда сам-то с нашего же брата и тут тебе под носом гадит, так это что же выходит?
Все смотрели на Филиппа.
— А что, — продолжал громко Филипп. — Возьми мастера. Да недалеко ходить, нашего хотя бы. Это тебе не косвенный, а прямо можно сказать — заноза и паразит трудящего человека.
— Да что ты «мастер, мастер», — сказал пожилой; он откинулся на стуле и прямо глянул на Филиппа. Он перестал улыбаться. — Мастер, ты говоришь. Это уж его дело такое. Убери ты этого мастера, пойдет, знаешь… да что говорить…
— Что говорить? — кричал Филипп. — А то, что зачем из человека кровь пить? Дом он себе построит из наших копеек-то?
— Копейки не ему, — сказал рыжий; он сосал с блюдечка стакан за стаканом.
— Да я тебе скажу, — начал снова пожилой, — ты, Филька, брось. Тебя мастером поставить, так не похуже Игнатыча шило бы из тебя вышло. Это уж небеспременно.
— Да мне это не надо вовсе, мастерство это. Я и не тянусь. Больно надобно, — обиделся Филипп.
— Оно там надобно тебе, ай нет, а вот я тебе скажу: ты был в солдатах? — И старик подался вперед. — Был — говори, нет? Вот и оно. А там знаешь как? Солдат солдатом, как и все, кряхтит да жмется, а нашили ему лычко — одно! — вот тебе и начальство, — тебе же в морду сапоги тычет: чисти ему! А вчера сам взводному шаркал, аж потел. Да.
— Я говорю, — начал громко Филипп и глянул на Наденьку: что, мол, она?
— Говоришь ты, — сказал старик и нагнулся к чаю.
— Нет! — сказала Наденька; она чувствовала, что непременно надо сказать, и не один Филипп ждет. Ей хотелось поддержать Филиппа. — Нет! Товарищ Филипп, мне кажется, отчасти прав.
— Наш литейный мастер, — сказал рыжий, — так, ничего, на него нельзя обижаться. — Рыжий потихоньку расстегивал воротник.
— Дело не в том, какой попался человек. А вот товарищ Филипп даже не хочет стать мастером. Филипп закивал поспешно головой.
— Потому что само положение мастера, очевидно, таково, что… оно уж вырабатывает определенный тип.
— Вот именно — тип! — подхватил Филипп. — Самая сволочь вырабатывается.
— Какой бы человек ни был, но…
— Хоть самый рассвятой, — махал руками Филипп. Он встал и стал шагать по комнате — два шага туда, два обратно.
— Он должен смотреть, чтоб хозяйская копейка… — говорила уже смелее Наденька.
— Рубли дерет! — Филипп остановился над Наденькой, над ее головой ходили его руки. — Рубли, стерва, вымолачивает из человека, из своего же брата. И на людей, ирод, не глядит: боится, чтоб прибавку не спросил кто.
— Человек, который идет в мастера, — продолжала Наденька, — конечно, знает, на что идет. Он выходит из своего класса сознательно.
— И уж ни черта больше не сознает, — подговаривал Филипп на ходу.
— Он, конечно, является уж отщепенцем. Есть профессии, которые вполне определяют, — говорила Наденька; она разгоралась. — Есть такие профессии, товарищи…
Наденька встала, держась за спинку своего стула. Все на нее глядели. Глядел и Филипп горячими глазами.
— Есть профессии, которые сразу же определяют отношение человека ко всему обществу. В старой Германии палач…
— Вот именно что палач, форменно палач, — и Филипп хлопнул ладошами.
— Палач… даже кружка у него была своя, на цепи, в пивном погребе… чтоб никто из нее случайно не выпил, и с ним никто не говорил.
— И говорить с ними, сволочами, нечего. Какой может быть с ними разговор? Ты ему одно, а он все…
— На цепи, сказываете? — Рыжий литейщик впился глазами в Наденьку.
Все загудели.
В это время дверь приотворилась, и в комнату тихонько втиснулся человек в серой тужурке и в русских сапогах. На вид лет сорока. Он молча остановился у двери, оглядывая собрание. Филипп не сразу его заметил. Но, взглянув, он вдруг метнулся:
— А, Кузьма Егорыч!
— Ну, ну, продолжайте.
Но все стихли. Самовар пел задумчивую ноту, как ни в чем не бывало.
Филипп вполголоса шептался у двери с Кузьмою.
— А, про косвенные налоги, — расслышала за спиной Наденька.
— Уж кончили, можно сказать… Да, да, вместо Петра… И они вышли в коридор.
НАДЕНЬКА чинно встала. Она уже натянула один рукав своего салопа, как вскочил в комнату Филипп и бросился помогать. Лицо у него было красное, он улыбался, он признательно суетился, отыскивая Наденькину косынку. Два раза переложил из руки в руку и подал. Он кивнул товарищам:
— Я — проводить, а вы потом выкатывайся по одному.
Наденька пошла деловой походкой, как будто ей еще в два места надо поспеть. Филипп шел рядом, наклоняясь и поворачиваясь к Наденьке. Теперь они шли прямо по Второй Слободской.
— Вот я вам говорил, товарищ, — наклонялся Филипп, — что про мастеров, вот оно, видали? Я вам говорю, я уж знаю. Здорово мы с вами как, а?
— Да, — сказала Наденька сухо. — Но я думаю…
— Насчет спичек думаете? Это тоже здорово. Я ведь знаю. Я уж видал. А то я, сказать, боялся, уж не сердитесь, женщина — думал, по-нашему сказать, извините, — баба. Пойдет, думаю: в тысяча шестьсот сорок тридцатом году в Америке, у черта на хвосте… А теперь я знаю: побей меня Господь, они сидят там и говорят: вот Филька бабу привел — это да. Верно вам говорю.
Наденька глянула на Филиппа.
— Свернемте, здесь тише.
Они вошли в пустой переулок. Сквозь закрытые ставни кой-где светлыми кантами виднелся свет.
Филипп легонько взял Наденьку за локоть.
— Идите серединой, а то вдруг собака.
— А вы учились где-нибудь? — спросила Наденька. Спросила участливым, ласковым голосом.
— Какое же ученье? Все сам, знаете. Вот сейчас хожу… — И Васильев рассказал, как он ходит в тот самый университет, который устроил знакомый Тиктиных старичок. — Астрономию, как земля получилась. А то, знаете, что же, не про Адама же с Евой — раз, два — и кружева.
В это время из темноты, со сдавленным воем, пулей понесся пес — черным пятном на серой дороге.
Филипп быстро рукой отодвинул Наденьку и сунулся на собаку.
— А, ты, стерва! — Филипп нагнулся за камнем. Собака осадила, проехала в пыли на четырех лапах, повернула и, отскочив на два шага, стала бешено лаять. Филипп шарил на земле камень.
— Не пугайтесь, — кричал он через лай Наденьке, — я ее сейчас.
Со всех дворов тревожным лаем всполошились собаки.
Филипп нашарил большой булыжник и, размахнувшись, бросил: слышно было, как об твердое ляпнул камень, и собака отчаянно завизжала. Во дворах на минуту лай примолк и снова рванул с новой силой.
— Ах, зачем же так, — сказала Наденька. В это время звякнула щеколда, и грубый мужской голос из темноты заорал на весь переулок:
— Ты что же это, сукин ты сын, озоруешь? Морду тебе набить надо.
— Тебя б с собакой твоей на цепь посадить. Проходу нет, — кричал Филипп с улицы.
Белое пятно отделилось от черного забора — человек шагал, глухо ступая по пыли.
— Давно вам рыла не били, — сказал он, подойдя на шаг к Васильеву, — шляетесь с девками тута.
Наденька плохо слышала среди собачьего лая, она только видела, как Филипп весь махнулся вбок и хрястнула затрещина и следом ��ругой, глухой удар. Белая рубаха свалилась в пыль.