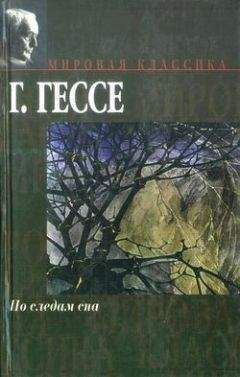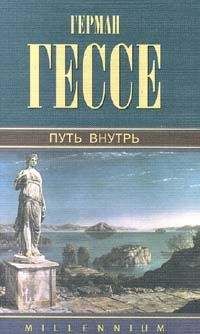Но длилось ли то какие-то дни, часы или только минуты, счастье испытывал я не раз, да и в поздние дни, уже в старости, на какие-то мгновения приближался к нему. А из тех встреч со счастьем на заре жизни, сколько раз я ни вызывал их в памяти, ни вопрошал и ни проверял, особенную стойкость обнаруживала одна. Произошла она в мои школьные годы, и самое в ней существенное, все подлинное, первичное, мифическое в ней, состояние тихо смеющегося единства с миром, абсолютной свободы от времени, от надежды и страха, полной сиюминутности всего на свете, длилось, наверно, недолго, может быть, несколько минут.
Однажды утром я, бойкий мальчик лет десяти, проснулся с необыкновенно прекрасным и глубоким чувством радости и благополучия, пронизывавшим меня, как лучи какого-то внутреннего солнца, так, словно вот сейчас, в этот миг пробуждения, произошло что-то новое и чудесное, словно весь мой маленький и огромный мир детства вступил в новое, высшее состояние, словно вся прекрасная жизнь только сейчас, в это раннее утро, обрели полную свою ценность, полный свой смысл. Я знать не знал ни о вчерашнем дне, ни о завтрашнем, я был объят ласково омывавшим меня дивным сегодня. Это было приятно, органы чувств и душа наслаждались этим без любопытства и безотчетно, это пронимало меня и было великолепно на вкус.
Стояло утро, через высокое окно я видел над длинным гребнем крыши соседнего дома чистую голубизну ясного неба, оно тоже казалось полным счастья, словно ему предстоит нечто особенное и для этого оно надело самое красивое свое платье. Ничего больше от мира с моей кровати не было видно, только это прекрасное небо и длинный кусок крыши соседнего дома, но и эта крыша, эта скучная и пустая крыша из темно-бурой черепицы, казалось, смеялась, на ее крутом тенистом скате шла тихая игра красок, и одна синеватая стеклянная пластинка среди бурых глиняных казалась живой, она, казалось, радостно старалась отразить что-то от этого так тихо и непрерывно сиявшего раннего неба. Небо, шероховатая кромка крыши, однообразный строй бурых черепичин и воздушная синева единственной стекляшки пребывали, казалось, в каком-то прекрасном и радостном согласии, у них на уме явно не было ничего другого, кроме как улыбаться друг другу и желать друг другу добра в этот особенный утренний час. У голубизны неба, у бурого цвета черепицы и синевы стекляшки был смысл, они были заодно, они играли друг с другом, им было хорошо, и было приятно видеть их, присутствовать при их игре, чувствовать в себе тот же блеск утра, то же блаженство, что в них.
Так, наслаждаясь начинающимся утром и сохранившимся от сна чувством покоя, я пролежал в постели прекрасную вечность, и, даже если я когда-либо еще в жизни испытывал такое же или схожее счастье, оно не могло быть глубже и подлиннее: мир был в порядке. И длилось ли это счастье сто секунд или десять минут, оно было настолько вне времени, что полностью походило на всякое другое настоящее счастье, как один порхающий мотылек на другого. Оно было бренно, волны времени захлестнули его, но оно было достаточно глубоким и вечным, чтобы больше чем через шестьдесят лет, еще сегодня, звать меня к себе и тянуть, а я, при усталых глазах и боли в пальцах, старался призвать его и улыбнуться ему, воспроизвести его и описать. Оно состояло из ничего, это счастье, не состояло ни из чего, кроме как из созвучия нескольких предметов около меня с моим собственным бытием, из блаженства без желаний, не требовавшего никакого изменения, никакого усиления.
В доме стояла еще тишина, и снаружи не доносилось ни звука. Не будь этой тишины, воспоминание о ежедневных обязанностях, о необходимости встать и пойти в школу, вероятно, помешало бы моему блаженству. Но происходило это явно не днем и не ночью, были, правда, сладостный свет и смеющаяся голубизна, но не было ни трусцы служанок по каменным плитам площадки и перед домом, ни скрипа дверей, ни шагов мальчишки из пекарни на лестницах. Это утреннее мгновенье было вне времени, оно ни к чему не призывало, ни на что предстоящее не указывало, оно довлело себе, а поскольку оно целиком включало меня в себя, то и для меня не существовало ни дня, ни мыслей о вставании и школе, о полусделанных уроках или скверно выученных вокабулах, о торопливом завтраке в свежепроветренной столовой напротив моей комнаты.
Вечность счастья рухнула на сей раз из-за того, что прекрасное усилилось, из-за увеличения, из-за избытка радости. Когда я так лежал, не шевелясь, и в меня проникал, вбирая меня в себя, светлый и тихий утренний мир, в тишину издалека ворвалось что-то непривычное, что-то блестящее и звонкое, золотое и торжествующее, полное бурной радости, манящее и будяще сладостное — звук трубы. И пока я, теперь совсем проснувшись, приподнимался в постели и откидывал одеяло, звук стал уже двухголосым и многоголосым: это был городской оркестр, шагавший по улицам с громкой музыкой, — крайне редкое, волнующее событие, полное такой гремящей торжественности, что мое детское сердце одновременно смеялось и всхлипывало, словно все счастье, все волшебство этого блаженного часа слилось в эти возбуждающие, остро-сладостные звуки и теперь, разбуженное, вернулось в суету и бренность. В одну секунду вскочил я с постели, дрожа от радости, бросился к двери и в соседнюю комнату, из окон которой видна была улица. В смятении восторга, любопытства и желания присутствовать при этом событии, я высунулся в открытое окно, услышал, осчастливленный, наплывающие, надменные звуки приближающейся музыки, увидел и услышал, как пробуждаются, оживают, наполняются лицами, фигурами и голосами соседние дома и улицы, — и в ту же секунду вспомнил все, о чем совершенно забыл в том блаженстве между сном и началом дня. Я вспомнил, что сегодня действительно занятий в школе не будет, а будет большой праздник — то был, кажется, день рождения короля, — будут шествия, флаги, музыка и неслыханные увеселения.
И, вспомнив это, я возвратился, я снова подчинился законам, властвующим над буднями, и, хотя день был не будний, а праздничный, для которого и разбудили меня эти металлические звуки, главное, прекрасное и божественное, что было в этом утреннем волшебстве, уже исчезло, и над маленьким прелестным чудом снова сомкнулись волны времени, мира, обыкновенности.
В последнее время я много думал о своем однокашнике Мартине. Из небытия и темноты, куда на долгие годы ушел от меня его образ, он снова проник ко мне отдельными тихими, но энергичными рывками, движениями, толчками, как рано утром медленно, но неудержимо прокрадывается и проникает сквозь щели в ставнях дневной свет в темную спальню, и из крошечных воспоминаний у меня снова сложился некий целостный образ, кое-какие черты которого я, вероятно, присочинил или довообразил, ибо знал Мартина я только в наши детские годы. Он учился в Кальве в одном со мной классе латинской школы, откуда меня, однако, отправили на полтора года в Гёппинген, а затем я встретил его семинаристом в монастыре, из которого я тоже вскоре исчез, чтобы через четыре года снова встретить большинство своих прежних соучеников в роли студентов. Среди них был и Мартин, но во время его тюбингенских семестров между нами не возникло иных отношений, чем между бывшими одноклассниками, которые при встрече на улице приветливо кивают друг другу, совершенно бессознательно чувствуя при этом какую-то безымянную близость, существующую лишь между людьми, знакомыми с детства, близость, смутно-приятная почва которой придает даже самым необязательным и случайным отношениям тон и аромат, отсутствующие во всех завязавшихся позднее отношениях и дружбах.
Итак, встретившись в Тюбингене, где я работал в книжной лавке, а Мартин был студентом богословского факультета, мы не вступили друг с другом в какие-либо более близкие отношения. Кто из нас первым покинул Тюбинген, он или я, не помню, прощаться друг с другом повода у нас не было, и мы, может быть, вообще забыли бы друг о друге, если бы через несколько лет он вдруг не попался мне на глаза в Базеле. Незадолго до того женившись, я привез мою молодую жену, заболевшую мучительной болезнью, из нашей примитивной хижины у Боденского озера в ее базельский родительский дом для ухода и собирался вернуться на Боденское озеро. Тут-то мы встретились и оба обрадовались этому, потому что оба находились на той ступени жизни, когда встреча с однокашником и разговор о временах детства — это уже не нечто обыденное, а нечто особенное и редкое, счастливый случай, маленький праздник. Он все еще был студентом, поскольку перешел за это время на филологический факультет и, возможно, боролся с такими же заботами и муками совести, какими втихомолку терзался я, когда впервые возвращался один на свою новую родину и к едва начатой авантюре скромного литераторского существования вдали от города под гнетом новых связей и взятых на себя обязательств, которые были мне едва ли по силам. Во всяком случае, мы поздоровались радостнее и теплее, чем то случилось бы годом или двумя раньше, почувствовав друг в друге ободряющий отзвук той поры нашей молодости, которая уже начала потихоньку просветляться, преображаться, и обоим хотелось как-то продлить эту встречу. Вот почему мне удалось соблазнить добросовестного и точного Мартина поступиться своей добродетелью и погостить день-два в моей деревенской хижине на Боденском озере. Сыграло свою роль, наверно, и любопытство с его стороны, ибо если раньше я пользовался среди своих однокашников-семинаристов несколько сомнительной славой сбежавшего из школы, то как молодой автор получившей успех книги я виделся им теперь хотя и в более почтенном, но все-таки тоже небюргерском, каком-то бенгальском свете.