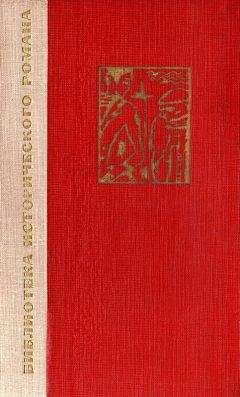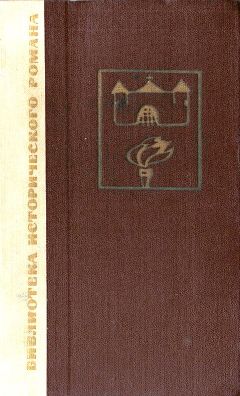Молния, сопровождавшаяся оглушительными раскатами грома, заставила Дорай вскочить; она воскликнула, осеняя себя крестным знамением:
— Иисус, Мария и старец Иосиф! Я оставлю вас; пойду спалю освященный пальмовый лист и зажгу свечи во спасение души.
Дождь хлынул как из ведра. Философ Тасио продолжал, глядя вслед молодой женщине:
— Теперь, когда ее нет, мы можем поговорить об этом более серьезно. Дорай, хотя и несколько суеверна, — добрая католичка, а мне не доставляет никакого удовольствия вырывать веру из чьего-либо сердца. Чистая и простая вера отличается от фанатизма, как пламя от чада, как музыка от какофонии: глупцы и глухие этого не различают. Между нами говоря, идея чистилища сама по себе хороша, свята и разумна; она как бы соединяет тех, кого уже нет, с живыми, и побуждает быть чище и лучше. Вся беда в том, что эту идею употребляют во зло.
Посмотрим же, как могла проникнуть в католицизм идея чистилища, неизвестная Библии и святым Евангелиям. Ни Моисей, ни Иисус Христос даже мимоходом не упоминают о нем, а единственное место, которое приводится из книги Маккавейской[79], неубедительно, тем паче что книга эта была объявлена Лаодикейским собором неканонической и святая католическая церковь признала ее значительно позже. Языческая религия тоже не ведала чистилища. Столь известные строки из Виргилия: «Aliae panduntur inanes…»[80], давшие повод Григорию Великому говорить о погруженных в воду душах и побудившие Данте описать чистилище в своей «Божественной комедии», не могут быть источником этого верования. Ни брамины, ни буддисты, ни египтяне, у которых Греция и Рим заимствовали Харона и озеро Аверно[81], тоже не знали ничего, подобного чистилищу. Я уже не говорю о религиях североевропейских народов; это — религии воинов, бардов и охотников, но не философов. И хотя эти народы сохраняют еще свои верования и даже обряды, правда приспособленные к христианству, их вера не распространилась с ордами варваров, грабивших Рим, не смогла осесть в Капитолии; северные туманы рассеялись под южным солнцем.
Первые христиане тоже не верили в чистилище; они умирали с радостной надеждой, что скоро предстанут пред господом. Из отцов церкви первыми как будто упоминают о чистилище святой Клементий Александрийский, Ориген и святой Ириней; возможно, под влиянием зороастризма, который тогда еще процветал и был очень распространен на Востоке, — ведь Оригена весьма часто упрекают в приверженности к Востоку. Святой Ириней доказывал существование чистилища тем, что Иисус Христос пребывал три дня в глуби земной, то есть в чистилище, и заключил отсюда, что каждая душа должна пребывать там до воскрешения плоти, хотя «Hodie mecum eris in Paradiso»[82] как будто противоречит этому.
Святой Августин[83] тоже говорит о чистилище; не утверждая прямо, что оно существует, он, однако, не отвергает этой идеи, полагая, что в ином мире можно продлить наказание, которое мы терпим за наши грехи на земле.
— Черт бы побрал святого Августина! — воскликнул дон Филипо. — Мало ему, что нам приходится здесь страдать; ему нужно еще и продолжение!
— Вот так и пошлю: одни верили, а другие — нет. Однако с тех пор, как святой Григорий допустил существование чистилища в своем «de quibusdam levibus culpis esse ante judicium purgatorius ignis credendus est»[84] ничего определенного об этом не говорилось до тысяча четыреста тридцать девятого года; лишь тогда, через восемь веков после святого Григория, Флорентийский собор признал что должен существовать очистительный огонь для душ тех, кто скончался в мире с господом, но еще не исполнил всех велений божественного правосудия. Наконец, Тридентский собор, созванный Пием Четвертым в тысяча шестьсот пятьдесят третьем году, издал на своем пятнадцатом заседании декрет о чистилище, начинавшийся словами «cum catholica ecclesia, Spirito Sanio edocta»[85] и гласивший, что старания живых, молитвы, пожертвования и другие богоугодные дела — наиболее действенные средства для спасения душ, особенно если к этому еще заказать мессу. Однако протестанты не верят в чистилище, и греческие священники тоже, ибо не находят подтверждения в Евангелии; они говорят, что наша ответственность за поступки кончается со смертью и что «Quodcumque ligaberis in terra» вовсе не означает «usque ad purgatorium»[86]. На это можно ответить следующее: если чистилище находится в центре земли, то оно, разумеется, оказывается во власти святого Петра… Я, наверное, никогда бы не кончил, если бы стал пересказывать все, что по этому поводу говорили. Если вы когда-нибудь захотите еще побеседовать со мной об этом предмете, приходите ко мне домой, там мы раскроем книги и поболтаем на досуге.
А теперь мне надо идти. Не понимаю, почему в такую ночь христианское благочестие допускает кражи — это вы, власти, попустительствуете, — и я боюсь за свои книги. Если бы их украли у меня, чтобы прочесть, я бы не огорчился, но я знаю, что многие хотят попросту сжечь их, дабы оказать мне благодеяние, а таких благодетелей, подобных халифу Омару[87], следует опасаться. Кое-кто считает, что за мою страсть к книгам я уже проклят богом…
— Но я думаю, в проклятие-то вы верите? — спросила, улыбаясь, Дорай; она появилась, неся маленькую жаровню с сухими пальмовыми листьями, от которых шел густой ароматный дым.
— Не знаю, сеньора, как будет угодно господу поступите со мною! — ответил задумчиво старый Тасио. — На смертном одре я вверюсь ему без страха, пусть делает со мной, что пожелает. Но мне в голову приходит одна мысль…
— Какая же?
— Если спастись могут только католики, да и то не более пяти из ста, как уверяют многие священники, и если католики составляют лишь одну двенадцатую часть населения земного шара, судя по статистике, то выходит, что после того, как были прокляты тысячи тысяч людей во все века, предшествовавшие явлению спасителя на землю, и после того, как сын божий принял смерть за нас, теперь удается спастись только пятерым из тысячи двухсот человек? О, так не может быть! Я предпочитаю говорить и думать, как Иов: «Не сорванный ли листок ты, сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?» Нет, такая жестокость немыслима, верить в нее — значит богохульствовать; нет и нет.
— Чего же вы хотите? Божественное правосудие и святость…
— О! Но божественное правосудие и святость предвидели будущее еще до сотворения мира! — ответил старец, вставая. — Человек — это явление случайное и не обязательное; бог не должен был создавать его, нет, не должен был, если для того, чтобы сделать счастливым одного, ему надо осуждать на вечные муки сотни людей. И за что? За грехи предков или случайные проступки! Нет, это невероятно! А если бы это было так, лучше заранее удушите своего мирно спящего сына; если бы это верование не было кощунством против самого бога, которому надлежит быть олицетворением добра, тогда сам Молох финикийский, который питался человеческим мясом и кровью невинных и во чреве которого сгорали дети, оторванные от материнской груди, тогда это кровожадное, страшное божество выглядело бы рядом с милосердным христианским богом хрупкой девицей, другом нашим, матерью человечества!
И, объятый ужасом, чудак — или философ — покинул дом и выбежал на улицу, невзирая на дождь и тьму.
Ослепительная молния, сопровождаемая страшным ударом грома, рассыпала в воздухе смертоносные искры и осветила старца, который, воздев руки к небу, кричал:
— Ты протестуешь! Я знаю, что ты не жесток, я знаю, что должен называть тебя добрым!
Молнии то и дело сверкали, гроза свирепела…
Раскаты грома следовали один за другим, сливаясь в едином грохоте, и перед каждым раскатом небо рассекал чудовищный зигзаг молнии; словно бог хотел начертать пламенем свое имя, а небосвод содрогался от страха. Дождь лил потоками, которые метались то вправо, то влево, гонимые порывами зловеще завывавшего ветра. Колокола робкими голосами возносили к небу свою меланхоличную жалобу и в короткие промежутки тишины, когда смолкал рев разбушевавшейся стихии, их печальный перезвон казался мольбою, стоном и плачем.
На второй площадке колокольни сидели два мальчика, которые недавно разговаривали с философом. Младший, с большими черными глазами и пугливым выражением личика, старался покрепче прижаться к брату, очень похожему на него лицом, но глядевшему более осмысленно и решительно. На обоих была поношенная одежда, вся в заплатах. Они сидели на чурбане, и каждый держал в руке веревку, верхний конец которой терялся где-то высоко, в темноте третьей площадки. Дождь, подгоняемый ветром, добирался до них и гасил огарок свечи, стоявший на большом камне, который катают на хорах, воспроизводя гром в святую пятницу.
— Тяни веревку, Криспин! — сказал старший своему братишке.