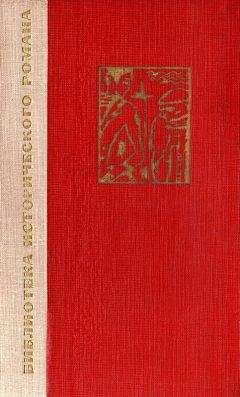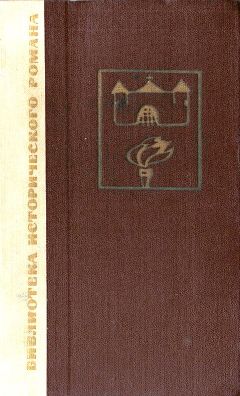— Тяни веревку, Криспин! — сказал старший своему братишке.
Тот повис на канате, и наверху послышалось слабое стенание, но его тотчас заглушил удар грома, многократно повторенный эхом.
— Ох, если бы мы сейчас были дома, с мамой! — вздохнул младший, глядя на брата. — Там не страшно.
Старший не ответил; он смотрел, как оплывает воск и был, казалось, чем-то встревожен.
— Там никто не сказал бы мне, что я ворую! — прибавил Криспин. — Мама не позволила бы! А если бы она знала, что меня бьют…
Старший отвел глаза от пламени и поднял голову. Схватив толстую веревку, он сильно ее рванул: сверху донеслось звучное гудение.
— Мы всегда так будем жить, брат? — продолжал Криспин. — Хоть бы заболеть завтра и остаться дома, сильно-сильно заболеть, чтобы мама за мной ухаживала и не пускала в монастырь! Меня бы не называли вором, не били бы! И ты тоже заболей со мной вместе.
— Нет! — ответил старший брат. — Тогда мы все умрем: мать от горя, а мы с голоду.
Криспин молчал.
— Ты сколько заработал в этом месяце? — спросил он наконец.
— Два песо: на меня наложили три пени.
— Заплати за меня, за то, что я украл, как они говорят; пусть не называют нас ворами. Заплати!
— Ты с ума сошел, Криспин! Маме есть будет нечего; отец эконом говорит, что ты украл две унции, а две унции — это тридцать два песо.
Малыш стал считать на пальцах, пока не насчитал тридцать два.
— Шесть рук и два пальца! И каждый палец — это песо, — прошептал он задумчиво. — А каждый песо… Сколько в нем куарто?
— Сто шестьдесят.
— Сто шестьдесят куарто? Сто шестьдесят раз по одному куарто? Ой, мама! А сколько это — сто шестьдесят?
— Тридцать две руки, — ответил старший.
Криспин на секунду замер, разглядывая свои ручонки.
— Тридцать две руки! — повторял он. — Шесть рук и два пальца, а каждый палец — тридцать две руки… и каждый палец — один куарто… Ох, мамочка, сколько же куарто! Не сосчитаешь и за три дня… Можно купить и туфли, и шляпу от солнца, и большой зонтик от дождя, и еду, и одежду тебе, маме и…
Криспин задумался.
— А жаль, что я вправду не украл!
— Криспин! — упрекнул его брат.
— Не сердись! Священник сказал, что забьет меня до смерти, если деньги не сыщутся; если бы я украл, я смог бы их отыскать. А если бы умер, то у тебя и у мамы осталась бы одежда. Уж лучше бы я украл!
Старший молча раскачивал веревку. Потом сказал, вздохнув:
— Боюсь, что мать будет тебя бранить, если узнает!
— Почему ты так думаешь? — удивленно спросил малыш. — Ты ей скажешь, что меня уже сильно побили, я покажу ей свои синяки и дырявый карман; у меня и был-то всего один куарто, который мне дали на пасху, а священник вчера отнял и его. Я никогда не видел такого красивого куарто. Мама не поверит этому, не поверит!
— Если священник ей скажет…
Криспин заплакал, бормоча сквозь слезы:
— Тогда иди ты один, я не пойду; скажи маме, что я заболел; я не хочу идти домой.
— Не плачь, Криспин! — сказал старший. — Мать не поверит наговорам, не плачь; сказал же старый Тасио, что нас ждет вкусный ужин…
Криспин поднял голову и посмотрел на брата.
— Вкусный ужин! Я еще и не обедал: они не дают мне есть, пока не найдутся две унции. А если мама поверит? Ты ей скажешь, что отец эконом врет и священник, который ему верит, — тоже; они врут, говорят, что мы воры, потому что отец у нас непутевый…
Но тут снизу, оттуда, куда уходила лестница, соединявшая площадку с первым этажом, вдруг вынырнула голова, и, будто при появлении Медузы, слова застыли на губах ребенка. Это была продолговатая, сухая голова с длинными черными волосами; синие очки скрывали кривой глаз. Таков был отец эконом, который имел обыкновение появляться бесшумно и внезапно.
Оба брата окаменели.
— На тебя, Басилио, я налагаю штраф в два реала за то, что ты звонишь неравномерно, — сказал отец эконом настолько глухо, будто у него не было голосовых связок А ты, Криспин, ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока не вернешь то, что украл.
Криспин взглянул на брата, моля о помощи.
— Нам уже разрешили идти… мать ждет нас к восьми, — робко пролепетал Басилио.
— Ты тоже не уйдешь в восемь, — сиди до десяти!
— Но, сеньор, ведь после девяти нельзя ходить, да и дом наш далеко.
— Ты мне еще указывать будешь? — злобно прошипел отец эконом. И, схватив Криспина за плечо, потащил его к себе.
— Сеньор! Мы уже целую неделю не видели матери! — молил Басилио, уцепившись за братишку.
Отец эконом резко оттолкнул Басилио и поволок за собой Криспина, который сквозь слезы кричал брату:
— Не отдавай меня, они меня убьют!
Но отец эконом, не обращая внимания на крик, продолжал тащить ребенка вниз по лестнице, пока оба не исчезли в темноте.
Басилио стоял, онемев от ужаса. Он слышал, как ударялось о ступени тело брата, как бил ого отец эконом, слышал крики, но вскоре все эти раздирающие душу звуки стихли.
Мальчик не дышал: он все еще прислушивался, широко раскрыв глаза и сжав кулаки.
— Когда же я наконец сам смогу пахать? — пробормотал он и бросился вниз по лестнице.
Спустившись на хоры, он снова прислушался; голос брата быстро удалялся и крики: «Мама! Братик!» — совсем прекратились, когда захлопнулась какая-то дверь.
Дрожа, обливаясь холодным потом, Басилио замер на месте; он кусал пальцы, чтобы сдержать крик, рвавшийся из груди; потом стал озираться вокруг, пытаясь что-нибудь разглядеть в тускло освещенной церкви. Слабо мерцала лампа; посредине стоял катафалк; все двери были заперты, на окнах — решетки.
Тогда он быстро взбежал вверх по лестнице, миновал вторую площадку, где горела свеча, и поднялся на третью. Там Басилио отвязал веревки от колоколов и снова спустился. Он был бледен, но глаза его блестели, только не от слез.
Дождь начал стихать, и небо очищалось от туч.
Басилио связал веревки, прикрепил их одним концом к столбику балюстрады и, забыв погасить свет, соскользнул во мглу.
Несколько минут спустя на одной из улиц послышались голоса и прогремели выстрелы; однако никто из горожан даже ухом не повел, и снова все погрузилось в безмолвие.
Ночной мрак сгущается. Спят спокойно горожане, спят семьи, которые помянули усопших, — они почивают безмятежно, с легкой совестью, ибо прочитали все положенные заупокойные молитвы, отмолились девять дней во спасение душ и сожгли немало свеч перед святыми образами. Сильные мира сего сполна рассчитались с родственниками, которые оставили им богатство; завтра они отстоят по одной мессе у каждого священника, дадут два песо, чтобы отслужили еще одну мессу по их заказу, а потом купят буллу с индульгенциями для усопших. Поистине правосудие божье куда менее требовательно, чем людское.
Однако бедняк, неимущий, который едва зарабатывает на хлеб и еще должен давать взятки секретарям префекта, писцам и солдатам, чтобы они не трогали его, вряд ли спит спокойно, вопреки мнению придворных поэтов, которые, наверно, не испытали на себе всех ужасов нужды. Бедняк ложится спать с печальной думой. Этим вечером он прочитал, может быть, мало молитв, зато много жалоб вознес богу с тоскою в очах и болью в сердце. Он не молится по девять дней подряд, он не знает ни тропарей, ни псалмов, ни других песнопений, которые сочинили монахи для тех, у кого нет ни собственных мыслей, ни собственных чувств; да он всего этого и не понимает. Он молится на языке своей нужды; его душа плачет о себе и о тех усопших, чья любовь была для него радостью. Пусть уста его шепчут благодарственную молитву, — его разум жалуется и обвиняет. Будете ли вы довольны — ты, господь, благословивший нищету, и вы, тени в чистилище, — безыскусной молитвой бедняка, произнесенной перед дешевой олеографией при свете тимсима? Или вы, быть может, желаете видеть свечи перед кровоточащими распятиями, перед девами, у которых стеклянные глаза и губы бантиком, и хотите слушать мессы, что бубнят по-латыни равнодушные священники? О религия, дарованная страждущему человечеству, ужели ты забыла свою миссию — утешать угнетенного нуждой и умерять гордыню власть имущего? Ужели ныне ты сулишь спасение только богатым, только тем, кто может заплатить тебе?
Бедная вдова, лежа рядом с детьми, не смыкает глаз; она думает о буллах, которые надо купить, чтобы ее родители и покойный муж почивали в мире. «Одно песо, — шепчет она, — одно песо, это неделя счастья для моих детей, неделя смеха и радости, это сбережения за целый месяц, это платье для моей дочери, которая становится взрослой…» — «Надо погасить огонь сих желаний — слышится ей голос проповедника, — надо жертвовать собой». Да! Надо! Церковь не спасает безвозмездно души твоих любимых: она не раздает буллы бесплатно. Ты должна купить буллу, и, вместо того чтобы ночью спать, ты будешь работать. А дочь твоя пусть ходит в лохмотьях. Ох, как дорого стоит небо! Нет, видно, бедным не попасть в рай!